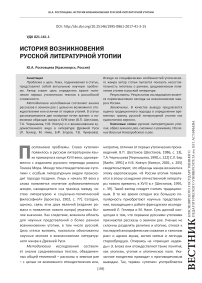История возникновения русской литературной утопии
Автор: Ростовцева Юлия Александровна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Научный дебют
Статья в выпуске: 3 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
Проблема и цель. Тема, поднимаемая в статье, представляет собой актуальную научную проблему. Автор ставит цель определить время появления первых утопических текстов в российской словесности. Методологию исследования составляет анализ рассказов о земном рае с целью их возможного отождествления или отличия от первых утопий. В статье рассматриваются две полярные точки зрения: о появлении образцов жанра в XVIII веке (В.П. Шестаков, Т.А. Чернышева, Н.В. Ковтун) и о возникновении художественного вида в литературе Древней Руси (Л. Геллер, М. Нике, Б.Ф. Егоров, Т.В. Чумакова). Исходя из специфических особенностей утопического жанра автор статьи пытается показать несостоятельность гипотезы о раннем, средневековом появлении утопии в русской литературе. Результаты. Результатом исследования является переосмысление взгляда на возникновение жанра в России. Заключение. В качестве вывода предлагается оценка традиционного подхода в определении временных границ русской литературной утопии как единственно верного.
Русская литературная утопия, образ земного рая, сказание о рахманах, послание василия новгородского о рае
Короткий адрес: https://sciup.org/144154519
IDR: 144154519 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25146/1995-0861-2017-41-3-15
Текст научной статьи История возникновения русской литературной утопии
DOI:
Постановка проблемы. Слово «утопия» появилось в русском литературном языке примерно в конце XVIII века, одновременно с изданием русского перевода романа Томаса Мора. Между тем отождествление «утопии» с особым литературным видом происходит гораздо позднее. Лишь к началу XX века у слова появляется значение художественного жанра, находящегося «на границ^ между чистою литературою и соцiально-политической философией» [Брокгауз, 1902, c. 77]. Сегодня, однако, связь этих двух явлений (издание романа и появление нового жанра) утратила былое значение. Как следствие, возникла область для научных представлений о более раннем возникновении утопии, в том числе русской.
Цель статьи выявить, насколько обоснованны научные мнения о возникновении литературного жанра в Древней Руси.
Методологию исследования составляет анализ средневековых текстов, объединенных общей тематикой – рассказы о земном рае – с целью их возможного отождествления или, напротив, отличия от первых утопических произведений. В.П. Шестаков [Шестаков, 1986, c. 13], Т.А. Чернышева [Чернышева, 1990, с. 122] С.Л. Бэр [Baehr, 1991] и Н.В. Ковтун [Ковтун, 2001, c. 205] свидетельствуют, что образцы жанра возникли в эпоху европеизации. «В России утопия появляется в эпоху созидания отечественной литературы нового времени, в XVIII в.» [Шестаков, 1995, с. 39]. Такой взгляд следует считать традиционным. В то же время сегодня все б ольшую популярность приобретают научные представления, восходящие к работе французских исследователей Л. Геллера и М. Нике. Суть данной концепции в том, что первыми русскими утопиями признаются рассказы о земном рае. Ученые не склонны разделять религию и утопию, относя к последней апокрифические сказания о «земном рае» и адских муках, жития святых и легенды старообрядцев. Опираясь на «принцип надежды» Э. Блоха они отождествляют такие понятия, как утопизм, утопия и утопическое поле. Указанное тождество приводит к противоречивым выводам. Так, термин «утопия» употребляется
ВЕСТНИК
Геллером, Нике по отношению к целому периоду царствования Ивана Грозного - «губительная утопия Ивана IV» (1560–1584) [Геллер, Нике, 2003, c. 25]. В другом месте утопией называется идеал «Святой Руси».
Главным открытием французских «славистов» была выдвинутая ими концепция о более ранних, средневековых корнях русской литературной утопии. Первыми образцами жанра ученые назвали сказания о «земном рае». Между тем в самом подходе к изучению предмета Геллером и Нике есть ряд недостатков. К анализу русской литературы они подошли с набором европейских архетипов. В наблюдениях исследователей слышны отзвуки работы румынского культуролога М. Элиады «Миф о благородном дикаре», но отсутствуют отсылки к трудам знаменитых российских исследователей средневековой культуры, таких как Д.С. Лихачев, А.Н. Веселовский, В.Ф. Ржига, Н.С. Тихонравов и др. Также не обозначено принципиальное в данном случае отличие между западным и русским представлением о земном рае.
Парадиз всегда совмещен с гедонистическими образами insulae fortunate: «красота туземных девушек», «изумительные пейзажи», изобилие плодов. Поэтому, отмечает Элиаде, вся литература о дикарях является ценным материалом для изучения мышления западного человека: она раскрывает его стремление к условиям Эдема» [Элиаде]. Сходные описания «земного рая» можно прочитать у Геллера и Нике: «удаленность», островное положение, труднодо-ступность, отсутствие зла, денег, естественный достаток, упорядоченная половая жизнь, счастье, красота, мир... и проч. Иным было описание «земного рая» в Древней Руси. Оно было отлично и от тех описаний, которые содержат переводные сочинения сходного характера («Житие св. Агапия», «Слово о рахманах и предивном их житии»). Последнее очевидно на примере сравнения западных сочинений о диковинных землях и оригинального текста о земном рае – «Послание Василия Новгородского».
Сказания о счастливых землях, insulae fortunate, как называются они в западном лите- ратуроведении, были первой переводной фантастикой. Границ между иностранными и оригинальными сочинениями Геллер и Нике не проводят. Между тем для истории русской литературной утопии важно возникновение первых самобытных образцов жанра. В отличие от западных сочинений о счастливых островах, древнерусский рассказ о «земном рае» имел нравоучительное содержание и развлекательную цель не преследовал. Таким было повествование о земном рае, содержащееся в «Послании Василия Новгородского Феодору Тверскому» (1347). Вместо ярких образов terra beata, культа беспопечительности и комфорта, читателю предлагается вселяющий трепет короткий рассказ о «земном рае», который видели Мстислав-новгородец и его сын Иаков. «И вЬдЬша на горЬ той написанъ дЬиисусъ ла-зоремъ чюднымъ и велми издивленъ, паче мѣры, яко не человѣчьскыма рукама творенъ, но божиею благодатью. И свѣтъ бысть в мѣстѣ томъ самосияненъ, яко не мочи человѣку исповѣдати» [ПЛДР, 1981, с. 46].
Доминантные для русской культуры идеи – соборности и христоцентризма - будучи осмыслены французскими учеными в рамках атеистического мировоззрения, привели их к абсолютно неожиданным выводам. «Православие во всех своих аспектах - источник русского утопизма» [Геллер, Нике, 2003, с. 15]. Среди сторонников метода французских специалистов – доктор филологических работ Б.Ф. Егоров, доктор философских наук Т.В. Чумакова.
В «Путеводителе по российским утопиям» Егоров отмечает, что до фундаментального труда французских специалистов Геллера и Нике обилие текстов указанной тематики и содержания не было известно мировой общественности [Егоров, 2006, с. 4]. В подтверждение этих слов можно указать на более раннюю работу самого Егорова: его раздел под названием «Русские утопии» в пятом томе «Очерков по истории русской культуры», где временем появления утопических произведений в России назван XVIII век [Егоров, 1996]. В более позднем исследовании, подходя с надрелигиозным инструментарием к анализу российской словесности, автор не проводит различий между утопией и религией. Именно поэтому «рай» и «блаженное место, созданное богами» используются в тексте Егорова как синонимы [Егоров, 1996, с. 19]. Эта существенная особенность актуализируется ученым не единожды. Так, «Блаженному месту» (Аркадия, Елисейские поля) он приписывает значение топоса русской литературы. Таким образом, сводя на нет христианскую доминанту средневековой литературы, ученый приходит к тем же результатам, что французские литературоведы: первая утопия – рассказ о земном рае, первый утопист – Ермолай Еразм.
В 2000 году была опубликована работа Т.В. Чумаковой «Утопия в Древней Руси», в которой повторяется б о льшая часть утверждений Геллера и Нике. Сходство методологии отразилось и на структуре научных рассуждений Чумаковой [Чумакова, 2000, с. 188]. Исследователь классифицирует известные образцы жанра как утопии бегства, перестройки, воздействия. И, не проводя различия между утопией и религией, относит к первой сказания «о земном рае». При этом в качестве репрезентативного примера избирается притчевое «Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о рае». Согласно классификации Чумаковой, это утопия бегства.
Результат. Не различая религию и утопию, исследователи тем самым отождествили утопические тексты с произведениями, не имеющими отношение к данному жанру, и сделали это на таком репрезентативном материале, как сказания о земном рае. Если западные рассказы о блаженных землях описывают скорее рай комфорта, чем рай реальный, соотнесенный с той или иной религией. «Послание Василия Новгородского Феодору Тверскому о рае» находится вне общего тождества рай=комфорт.
Притчевый характер «Послания» Василия Калики выявляется событийным, реалистичным условием описываемого. Указанная черта отличает самобытный, исконно русский рассказ о земном рае. Стоит не согласиться с М. Ка-фоль, что отношение к сказочно далеким землям на Руси отождествлялось равно как с «зем ным раем», так и с социальной утопией [Ка-фоль, 1994, с. 143]. Утопичность присуща переводным текстам подобного содержания: «Сказание о рахманах», «Слово о Макарии Римском», «Хождение Агапия в Рай», но оригинальные отечественные произведения сходной тематики отличает былевой характер повествования.
Заключение. Итак, трудно согласиться с тем, что утопическая составляющая появилась в русской литературе уже в Средневековье. Первые тексты подобной направленности не возникли ранее эпохи секуляризации, когда высвободившаяся из-под покрова традиционализма и древнерусского этикета мысль книжника смогла подвергнуть критике социально-политическое устройство окружающей действительности. Именно в «длинный XVIII век» на русской почве зарождается жанр утопии, которая всегда неразрывно связана с сатирой.
Список литературы История возникновения русской литературной утопии
- Алексеев А.И. Представления о рае в период Средневековья//Образ рая: от мифа к утопии. Сер.: Symposium. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. Вып. 3. С. 195-197.
- Брокгауз Ф.А, Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Спб. 1902. Т. XXXV. 482 с.
- Веселовский А.Н. О Макарии. Из истории романа и повести. Материалы и исследования: сб. отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. Спб.: Типография императорской Академии наук. 1886. Вып. I: Греко-византийский периoд. С. 305-329.
- Веселовский А.Н. Параллели к сказанию о «Новгородском рае»//Филологические Записки. Воронеж, 1876. Вып. 3: Отд. «Историко-литературные заметки». С. 1-7.
- Геллер Л., Нике М. Утопия в России. СПб.: Гиперион, 2003. 312 с.
- Голейзоковский Н.К. «Послание о рае» и русско-византийские отношения в середине XIV века//Русско-балканские культурные связи в эпоху средневековья. София, 1982. С. 42-67.
- Егоров Б.Ф. Русские утопии//Очерки по истории русской культуры. М. 1996. Т. V (XIX век). С. 225-276.
- Егоров Б.Ф. Русские утопии: исторический путеводитель. СПб.: Искусство-СПБ, 2006. 416 с.
- Кафоль М. Об изображении рая в русских средневековых текстах//Slavica tergestina. Studia Russica. 1994. № 2. C. 137-159.
- Ковтун Н.В. Становление русской утопической парадигмы. Опыт жанрового анализа//Философский век. Альманах 14: История идей как методология гуманитарных исследований: программы спецкурсов. СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2001. С. 204-223.
- Ковтун Н.В. Политический дискурс в контексте утопического миромоделирования//Conversatoria Litteraria. 2014. № 8. С. 9-41.
- Памятники литературы Древней Руси. XIV -середина XV века. M., 1981. 606 c. (ПЛДР).
- Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., 1982. 688 с.
- Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы. М., 1863. Т. II. 478 с.
- Чернышева Т.А. Русская утопия//Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник. Сибирь. 1990. № 6. С. 118-127.
- Чумакова Т.В. Ностальгия по раю. Утопический контекст древнерусской мысли//Verbum. СПб.: Издательство философского общества, 2001. Вып. 3. С. 36-60.
- Чумакова Т.В. «Странник я на земле». Человек в поисках рая (по материалам древне-русской книжности)//Образ рая: от мифа к утопии. Сер.: Symposium. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. Вып. 31. С. 55-60.
- Чумакова Т.В. Утопия в Древней Руси//Философский век. Альманах 13: Российская утопия эпохи Просвещения и традиции мирового утопизма: матер. междунар. конф. 27-28 июля. СПб., 2000. С. 187-201.
- Шадурский М. Утопия как модель мира: границы и пограничья литературного явления: монография. Седльце, 2016. 147 с.
- Шестаков В.П. Русская литературная утопия/сост., общ. ред. вступ. ст. и ком. М.: Изд-во МГУ, 1986. 320 с.
- Шестаков В.П. Эсхатология и утопия. Очерки русской философии и культуры: учеб. пособие. М.: Владос, 1995. 208 с.
- Элиаде М. Миф о благородном дикаре, или престиж начала. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Eliade/Mif_BlDik.php
- Baehr S.L. The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia. Utopian Patterns in Early Secular Russian Literature and Culture. Stanford. California, 1991. 308 p.
- Baehr S.L. Review: Re-Searching Utopia. Reviewed Work: Histoire de l,utopie en Russie by Leonid Heller, Michel Niqueux//The Slavic and East European Journal. Autumn. 1998. Vol. 42, No. 3. P. 517 -520.
- Cioran E.M. History and utopia. Chicago: University of Chicago Press, 1998. 128 p.
- Levitas R. Utopia as Method. The Imaginary Reconstitution of Society. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. 268 p.
- Viable utopian ideas. Shaping a better world. Ed. By Arthur b. Shostak. London; New York, 2003. 295 p.