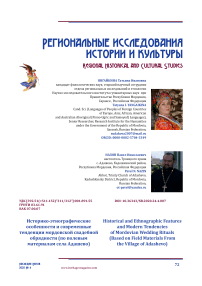Историко-этнографические особенности и современные тенденции мордовской свадебной обрядности (по полевым материалам села Адашево)
Автор: Янгайкина Татьяна Ивановна, Назин Павел Николаевич
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Региональные исследования истории и культуры
Статья в выпуске: 4 (24), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - изучить современные формы мордовской свадебной обрядности, выявить степень их соответствия традиционным обрядовым практикам прошлого и показать основные тенденции их эволюции (на полевом материале села Адашево Кадошкинского района Республики Мордовия). В качестве источников использованы этнографические факты, отраженные в собранных авторами полевых материалах, архивные документы, результаты исследований российских этнографов. Особенностью исследования является личное участие авторов в связанных со свадьбой событиях (праздничной процессии и православно-обрядовой части). Большинство выявленных и использованных материалов вводится в научный оборот впервые. Проведенные изыскания позволяют сделать вывод о том, что в прошлом мордовская свадьба заключала в себе сакральный смысл, однако в современном обществе обряды и традиции сохраняются лишь частично и являются скорее «театрализованной» постановкой.
Этнография, этнос, мордва, венчание, свадьба, брак, обычай, традиции, обряд, ритуал, атрибутика
Короткий адрес: https://sciup.org/170175026
IDR: 170175026 | УДК: [392.51(=511.152)”311/312”]:001.891.55 | DOI: 10.36343/SB.2020.24.4.007
Текст научной статьи Историко-этнографические особенности и современные тенденции мордовской свадебной обрядности (по полевым материалам села Адашево)
Возрождение духовно-нравственных ценностей, столь актуальное для нашей страны в настоящее время, невозможно без обращения к национальным традициям, обрядам и обычаям, несущим глубокий внутренний смысл и социальное значение. К таким традициям без сомнения, следует отнести и свадебный обряд, являющийся одним из важнейших событий в жизни представителей любой этнической культуры. Данное исследование, посвященное изучению главным образом современных свадебных обрядов мордвы с опорой на местный полевой материал, представляется значимым в аспекте полной реконструкции мордовского свадебно-обрядового комплекса во всем многообразии его локальных вариантов.
Повышенный интерес к традиционной культуре в современном мордовском обществе актуализирует необходимость глубокого изучения национальных традиций, обычаев, обрядов. Именно они, являясь средоточием и выражением этнического самосознания, насыщают жизнь этноса подлинным смыслом и глубоким внутренним содержанием.
Мордовская традиционная свадьба всегда вызывала интерес со стороны исследователей: историков, этнографов, путешественников. Первые сведения, относящиеся к описанию свадебно-обрядового комплекса мордвы, были получены в результате экспедиций, проводившихся в XVIII в. под эгидой Российской академии наук (И. Г. Георги, К. В. Миллер,
И. И. Лепехин, П. С. Паллас, И. П. Фальк и др.). В работах перечисленных авторов указывается на родительскую власть, распространявшуюся над детьми в вопросах женитьбы, отражены сведения о сватовстве, размере брачного выкупа, свадебном договоре, издержкам и срокам; имеются описания основных обрядовых этапов свадьбы, охарактеризованы песнопения, описан обычай имянаречения невесты.
Количество опубликованных материалов по этнографии мордвыи, в частности, по свадебной обрядности, существенно возросло в XIX в. после учреждения местных периодических изданий. Достаточно большой объем материала размещался и в центральных изданиях («Русский вестник», «Этнографическое обозрение»). По исследуемой теме в этот период были опубликованы работы М. Попова и некоторых анонимных авторов (судя по всему, местных священнослужителей). В конце столетия были изданы исследования П. И. Мельникова (Печерского) («Очерки мордвы», «Эрзянская свадьба» «Мокшанская свадьба»), включающие достаточно содержательные описания мордовской свадебной обрядности.
В первой четверти XX в., этнография мордвы стала объектом интенсивного изучения для целого ряда авторов, уделявших внимание в том числе и свадебно-обрядовой тематике (В. Ауновский, П. Варламов, В. Ис-синский, А. Леонтьев, И. Кронтовский, Г. Мар- тынов, К. Митропольский, А. Можаровский, А. Терновский, и др.).
Таким образом, традиционная мордовская свадьба имеет достаточно глубокую историю изучения, однако опубликованные материалы по большей части отличаются описательностью. Специальных же работ, охватывающих все компоненты и обрядности свадьбы села Адашево, практически нет. Некоторым исключением можно считать изыскания Т. И. Янгайкиной, посвященные свадебной обрядности и национальному костюму села Адашево [14] [15].
Таким образом, цель исследования исходит из степени изученности проблемы и заключается в определении изучения современных форм мордовской свадебной обрядности, распространенных в селе Адашево, а также в распоряжении авторов оказался богатый полевой материал. Перспективы дальнейшего исследования видятся в расширении географии изучаемого вопроса и сопоставительном анализе свадебной обрядности разных населенных пунктов.
В рамках историко-этнографического подхода в исследовании использовались различные методы: историографический, сравнительно-сопоставительный, логический, метод системного анализа, эмпирический метод (беседа, интервью, анкетирование, посещение обрядов), которые дали возможность собрать необходимую информацию в архивных и полевых условиях.
Постановкой цели предопределена методологическая основа исследования, в качестве которой выступает этнологический в оценке степени их соответствия традиционным обрядовым практикам прошлого и выявлении основных тенденций их эволюции.
В качестве источников данного исследования были использованы этнографические факты (аудиозаписи, фотоснимки), отраженные в собранных автором полевых материалах (записи односельчан, анкетирование, интервью); архивные документы (метрические книги); результаты исследований российских этнографов.
Для более полной характеристики рассматриваемой темы протоиереем Павлом (Назиным) были изучены метрические книги села Адашево, тщательно исследован вопрос гражданского и церковного брака. Однозначно большой вклад Павла Николаевича состоит в совершенном им таинстве венчания молодой пары Кистеневых. Протоиерей изначально подготовил их к этому серьезному шагу. Свадебные обряды совершались в присутствии Т. И. Ян-гайкиной, наблюдавшей за участниками свадьбы, делавшей аудиозаписи и фотоотчеты, собиравшей другие этнографические факты. В результате совместной плодотворной работы

Фото № 1. Троицкий храм с. Адашево Кадошкинского района Республики Мордовия.
эволюционизм, предполагающий поступательное развитие социокультурных явлений от простых форм к сложным.
Прежде чем приступить к обсуждению главной проблемы, уместно будет дать историческую справку о селе Адашево. Мордовское Адашево (Никольское) казенное из 203 дворов село Инсарского уезда. Название-антропоним Адаш часто встречается в актовых документах XVI–XVIII вв. [10, с. 214, 216]. На сегодняшний день в селе функционирует Троицкий храм (фото № 1), конкретная дата возведения которого не установлена. Несмотря на то что в клировых ведомостях Никольской церкви за XIX в. постройка первого деревянного храма датируется 1782 г. [12, л. 36], эти сведения являются ошибочными, так как начало записей в метрических книгах ведется с 1759 г. [12, л. 36] (следовательно, построенный в 1782 г. храм был вторым по счету). В 1868 г. в с. Ада-шево возвели новый храм (третий по счету. — Авт. ), в 1869 г. состоялось его освящение [12, с. 37]. Церковь получила официальное название — Троицкая, однако прихожане продолжали именовать ее Никольской или Троицко-Никольской. В церковных документах используется юридическое название — Троицкий храм. В «Книге записей Инсарской десятины села Никольского, Адашева тож» первым настоятелем указан иерей Михаил Артемьев [3, л. 74]. В настоящее время в Божьем храме службу несет протоиерей Павел.
Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения церковных метрических книг. Первые записи в метрических книгах священники сделали в конце XVIII в.: «27 апреля 1759 г. отрок Филипп Максимов поня (взял в жены. — Авт.) вдову Салманиду Иванову; 21 ноября того же года первым браком Моисей Савельев поня девку Ульяну Васильеву» [12, л. 35]. Примечательно, что в пяти из семи венчавшихся парах женщины вступали в повторный брак, будучи вдовами. В записях за 1761–1763 гг. содержатся сведения, согласно которым женихи венчались с невестами из других деревень и сел: «15 февраля [1761 г.] новокрещенный вдовец Остафий Ермолаев поня вдову деревни Кочетовки новокрещенную жену Пелагею Родионову»; одновременно с ними венчались еще две пары: «вдовец Иван Иванов поня вдову Агафию Петрову», «отрок Василий Лукьянов поня девку деревни Алексова новокре-щенную дочь Евдокию Савельеву»[12, л. 37]. Благодаря сохранности церковных записей можно установить определенную статистику венчанных браков.
Здесь уместно обратить внимание на главное преимущество таких браков — до Октябрьской революции у крещеной мордвы после венчания разрыв был невозможен [4, с. 296]. С установлением новой власти и принятием советских декретов это перестало играть существенную роль. Государство признавало лишь гражданские браки. Однако советская власть гарантировала всем гражданам полную свободу в возможности совершать церковные браки и фиксировать их в церковных книгах, так как это считалось «лишь известной религиозной церемонией частного характера» [13, с. 49]. Молодоженам разъясняли, что церковный брак или развод не будет иметь правовых последствий и взаимных обязательств для супругов [4, с. 237– 239]. Несмотря на свободу выбора, количество церковных браков резко сократилось. Тем не менее в с. Адашево в январе 1918 г. обвенчались 18 пар, в феврале — 14, в апреле и июне — по 1 паре. Далее записи на указанный год прерываются, так как метрические книги были переданы в сельский ЗАГС № 30. В середине XX в. пары, желавшие венчаться, предварительно расписывались в местном сельсовете (свидетельство о регистрации брака предъявлялось в церкви.
В XXI в. актуальность венчания при заключении браков не только не утрачена, но и продолжает возрастать — люди все чаще предпочитают связывать себя узами брака перед Богом. Так, в июле 2014 г. в с. Адашево прошла оригинальная национальная свадьба — со своеобразными традициями, обычаями и этническим колоритом. Мордовская пара — Сергей Геннадьевич Кистенев (мокша, житель с. Адашево) и Мария Валерьевна Солдаткина (эрзя, жительница г. Бугуруслана Оренбургской области) — решили соединить свои судьбы в церкви. По указу патриарха Кирилла и в настоящее время перед таинством венчания необходимо зарегистрировать граж- данский брак или, в крайнем случае, иметь поданное заявление в ЗАГС. Так, супруги Кистеневы вначале венчались и только спустя месяц зарегистрировали брак в Оренбургской области. Протоиерей Павел был осведомлен о поданном заявлении молодых за два месяца до таинства.
В этом контексте представляется убедительным поведать любопытные подробности сватовства (мокш. ладяма) жительницы с. Адашево Раисы Андреевны Янгайкиной: «В былые времена молодые люди не встречались, как нынешняя молодежь, а сразу приходили сватать понравившуюся девушку. Жила в нашей деревне Варака (баба Варвара, соседка), она и подшутила: „…вот, Ваня (будущий муж Раи) тебе рьвяня Чипр 1 Рая (жена), ее васенце куданди сюлендаф 2“»[9]. Дело в том, что у Андрея Ивановича и Анисьи Ивановны Курыновых (родители Р. А. Янгайкиной) первый ребенок умер в девятимесячном возрасте, и они долгое время не могли иметь детей. В итоге Анисья Ивановна ходила к ворожее и только после этого смогла забеременеть. Баба Варвара, зная об этом, придумала историю про обещание родителей в случае рождения дочери отдать ее замуж первым сватам. Раиса Андреевна сетует: «…первый раз, когда пришли меня сватать, мои родители спросили, согласна ли выйти замуж за Ивана, я отказалась. По истечении времени они пришли вторично свататься, ну я и согласилась» [9]. По словам информатора, она поддалась уговорам младшей сестры, так как та не могла выйти замуж раньше старшей. Во время опроса горечь обиды прозвучала в голосе Раисы Андреевны. На сватовстве решили, что свадьба будет проходить два дня в домах близких родственников жениха (иногда свадьбы шли в двенадцати домах родственников жениха). Праздничный стол в селе у невесты накрывался для ее родни. Естественно, родня жениха садилась за стол утром, когда шли за молодой, и вечером, когда провожали родителей невесты. Одаривание подарками родителей жениха, родных братьев и сестер (в том числе снох и зятьев), крестных возлагалось на плечи родителей невесты. Все это оговаривалось во время сватовства.
Следует отметить кардинальное отличие сватовства Кистеневых от обряда бабушки (Сергей Кистенев один из четырнадцати внуков Р. А. Янгайкиной. — Авт. ). Молодой человек с мамой и крестным отцом (при потере одного из родителей крестные заменяют его во всех обрядах свадебной церемонии) направились в г. Бугуруслан свататься: «Доехали до дома невесты, постучались. В шуточной форме говорим: „ Шумбрата, шабранте мяргсть тинь ярканянте ули, дайка ванцаськ ладяй ли минденек од ървянякс “ („Здравствуйте, соседи ваши сказали, у вас телочка есть, дайте посмотрим, не подойдет ли нам невесткой“)» [8].
Гостей пригласили к столу, затем подали окрошку, лапшу с кусочками мяса на бульоне (окрошка и лапша у мокши села Ада-шево подается только на поминках), было много блюд из мяса, вареные яйца. Во время застолья решались все вопросы, связанные с регистрацией, венчанием и праздничным гулянием, а также с подарками. Таинство венчания решили провести в с. Адашево. Круг гостей предстоящего торжества определился близкими родственниками жениха (до третьего колена), друзьями, крестными, со стороны невесты — родителями, крестными, свидетельницей. Гражданскую регистрацию брака запланировали провести в г. Бугуруслане, в присутствии всех родственников невесты, а также матери, брата и крестного отца жениха.
Необходимо отметить, что подготовка к свадьбе — расточительное и хлопотное дело, на которое уходит не менее месяца. Раньше в назначенный день перед венчанием жених со своей родней шли в дом невесты, где матка 3 благословляла дочь и будущего зятя иконой. Икону украшали вышитым рушником или полотенцем. Разнообразие рушников, использовавшихся на свадьбах, свидетельствует об их значительной этнической роли на каждом этапе — от сватовства до венча-

ния. В старину считалось, что невеста обязана лично вышить рушники и свадебную одежду. В семье Янгайкиных бережно хранится такой рушник (фото № 2) — «вафельное» полотнище длиной 240 см, шириной 42 см, по краям пришито кружево, вышит узор высотой 30 см и шириной 24 см (рушник вышивала крёстнай тядя 4 невесты).
На современных свадьбах дань традиции исчерпала свою значимость. И после того, как молодые (пара Кистеневых) получили благословление от родителей невесты, они направились с гостями в церковь. В соответствии с обычаями впереди свадебной процессии шли мокшанки в национальной одежде, играл гармонист, а младшая сноха семьи Ян-гайкиных звонила в поддужный колокольчик (фото № 3).
Колокол до настоящего времени является обязательным атрибутом мордовской свадьбы. Ранее в церковь молодые ехали зимой на дровнях или санях, запряженных лошадьми, осенью — на телеге. На дугу часто вешали колокольчик, чтобы вся округа слышала, как молодые едут (идут) под венец. А. Марты-
Фото № 2. Свадебный рушник Р. А. Янгайкиной.

Фото № 3. Свадебный поезд. Впереди – младшая сноха семьи Янгайкиных с поддужным колокольчиком.

при проведении свадеб в роду Янгай-киных. По преданию, свекровь Р. А. Ян-гайкиной Ксения Ивановна Янгайкина (в девичестве Кулакова, 1910 г. р.) в молодости на свадьбе у родственников сняла этот колокольчик с дуги тройки лошадей, с тех пор он передавался от поколения к поколению. Как выяснилось, колокольчик был изготовлен Федором Алексеевичем Веденеевым — мастером из с. Пурех Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Коллекционерам хорошо были известны изделия с опознавательной надписью «МАСТЕРЪ ФЕДОРЪ ВЕДЕНIЪЕВЪ». Согласно ведомостям нижегородского губернского статистического комитета о заводах Балахнинского уезда за 1895 г., завод по литью колокольчиков и бубенчиков был основан в 1849 г., находился в с. Пурех, заведовал производством сам владелец завода — крестьянин Ф. А. Веденеев. Высота колокольчика составляет 8,5 см, диаметр — 11,5, высота юбки — 3,5 см. На тулове выгравированы одноглавые орлы, на юбке надпись: «МАСТЕРЪ ФЕДОРЪ ВЕДЕНIЪЕВЪ. 18… (последние две цифры не читаются.—
Фото № 4. Поддужный колокольчик мастера Федора Алексеевича Веденеева из личного архива Т. И. Янгайкиной.
нов в статье «Мордва в Нижегородском уезде» отмечает: «После венчания невеста едет тем же порядком на тройке с бубенчиками
Авт .) ГОДА». Надпись на днище заглавными буквами: « М. Ф. А. В.».
Таким образом, поддужный колокольчик в свадебной процессии выполнял несколько функций: атрибутивную — символика праздника, музыкальную — звучание, бытовую — он мог использоваться и песнями»[7, с. 28]. Мордва-мокша бывшего Темниковского уезда Тамбовской губернии «при возвращении домой свадебного поезда с невестой останавливались у кладбища — поминать родителей, при этом вино также пили из колокольчиков» [5, с. 296]. Колокольчик присутствовал у мордвы на второй день свадьбы: «Когда пироги испекутся, стряпухи начинают вынимать их. К концу лопаты, которой вынимают из печи, привязывают несколько колокольчиков или бубенчиков» [5, с. 87].
Опираясь на собранные этнографические факты, авторы узнали легенду о поддужном колокольчике (фото № 4), являющемся неизменным этническим элементом как емкость для питья.
Но вернемся к свадебному процессу. Выше было упомянуто, что протоиерей Павел подготовил к таинству венчания брачующихся. Поскольку сам ритуал венчания во всех православных храмах идентичен, его описание здесь мы считаем нецелесообразным. Остановимся на том, что следует за ним.
Традиционно после совершения та- инства венчания молодые шли к родителям мужа, где арьхцява 5 вешала икону.

Фото № 5. Р. А. Янгайкина – старейшина своего рода, благодаря ей сохраняются, возрождаются традиции проведения свадеб и венчаний.
Р. А. Янгайкина (фото № 5) вспоминает: «…но-вобрачных кормили, затем ървяня 6 с подругами отправляли к соседям мужа, чтобы переодеться в праздничный наряд. Процесс одевания проходил под руководством арьх-цявы. На невесту надевали 5 рубах»[14, с. 94]. Далее за молодой женой шел муж с Торонь канды 7 , который завязывал руки венчанных платком и приводил их в дом родителей мужа. Молодую невестку ставили перед печью, и «дружка» трижды дотрагивался до ее головы караваем, нарекал новобрачную Мазей, Вежей или Тезей (Младшая, Средняя, Старшая сноха) [6, с. 156].
Обряд наречения разнообразен в этнографической литературе: «На другой день после брака молодых выводили в сени, где все гости с песнями и пляскою обходили трижды вокруг двух ведер, наполненных водою. Эти

Фото № 6. Шествие мокшанской свадьбы по главной улице села Адашево (демонстрация обряда «велень шарома»).
ведра затем на водоносе молодая вносила в избу. Здесь «дружка» ударял ее по голове караваем хлеба и нарекал собственно мордовское имя, которым с того времени и называли ее все младшие члены семейства» [11, с. 236]. В Краснослободском уезде молодую нарекали старухи, ударяя каждая по очереди одной и той же ковригой хлеба по голове новобрачной и приговаривая: «Да будешь ты Мазай (или Тезяй)» и т. д. [12, с. 236]. В. А. Ау-новский утверждал, что имя, данное «дружкой» «служит как бы нравственным аттестатом для невесты на всю ее замужнюю жизнь» [1, с. 320]. Этнограф описывает обычай наречения так: «Введя невесту в избу, он ставит ее под кожух (пыльник), слегка ударяет ее по голове венчальным хлебом и произносит которое-нибудь из следующих слов: м. Парай (добрая), м. Вяжай (злая), м. Люкай (дикая), м. Мазай (хорошая) и т. п.» [1, с. 320].
После нарекания невестки начинался обряд одаривания. Молодая жена накидывала на плечи крестному отцу и родному брату мужа по рубашке. Мать невесты дарила свахе покрывало, та, в свою очередь, вешала ей на шею белые бусы. Причем делать это мать жениха должна была непременно сама. С чем связана эта традиция, жители Бугуруслана ответить не смогли.
При сравнении обычая дарения подарков стоит обратить внимание на тот немаловажный момент, что в старину мать невесты также вешала на шею близких родственников зятя (в том числе бабушек и дедушек мужа) отрез дорогого шелкового материала. Теперь же подарки состоят из полотенец, постельного белья, покрывал и т. д.
После одаривания сейчас, как и раньше, гости и молодые идут по селу с плясками и песнями велень шарома 8 (фото № 6). Ни одна адашевская свадьба не обходится без традиционного шествия по улицам. Обряд несет в себе показательный элемент, обязательной является демонстрация праздничного наряда. Далее совершается обряд авозень прафтома 9 . Некогда женщины выбирали место возле дома, стелили покрывало (летом на траву) «валили свекровь на землю», на нее наваливались другие женщины, как бы пряча ее. Новоявленная сноха должна была найти маму мужа, приподнять ее и проводить до дома. Этот обряд несет в себе дань уважения к родительнице мужа. Здесь уместно вспомнить пророческие слова исследователя П. Н. Баранова, который высказал сожаление по поводу недолговечности свадебных обрядов: «Сравнивая бывшие лет десять назад эти обряды с позднейшими, видишь, что внешне они совершаются так же, как и раньше, но чувствуешь, что чего-то не хватает: нет той торжественности, того чувства, того подъема духа, что были раньше»[2, с. 121].
Примечателен и обычай второго дня свадьбы — выпечки блинов невесткой и то-ронь канды. Р. А. Янгайкина вспоминает: «Печь блины начинают утром, когда все гости наедятся ими, к печи подводят молодую с дружкой… Новобрачная закидывала в печь первый блин, а дружка доставал его уже испеченным, на столе переворачивал сковороду с блином перед арьхцявой, требуя выкупа. Обычай в данное время утрачен. Следуя традиции, посаженная мать начинала качирендама (в переводе с мокш. означает «капризничать». — Авт.), просила принести позу 10 в сите. На свадьбе Кистеневых над капризной арьхцявой смекалистая сваха решила подшутить: постелила на дно сита целлофановый пакет и на него налила позу с самогонкой» [9]. В итоге весь напиток пришлось выпить арьхцяве. В настоящее время данный обряд — постановка, шуточная игры гостей.
Все дни, пока шла свадьба, новобрачные стояли возле печи, не садясь за праздничный стол. Гости утром приходили в дом жениха, угощались, плясали, а потом ходили по домам родственников жениха, а к вечеру шли провожать близких родственников в дом невесты. Когда гости отсутствовали (ходили с плясками по селу), молодые могли поесть. До наших дней эта традиция не дошла, и сейчас на свадьбе молодые занимают самые почетные места.
Исследование, проведенное с опорой на собранный полевой материал, позволило выявить общие и специфические элементы мордовского свадебно-обрядового комплекса, распространенные в селе Адашево Кадошкинского района Республики Мордовия. Мы можем сделать вывод, что большинство свадебных обрядов и обычаев сохраняется, а именно: сватовство, венчание, одаривание, нарекание невесты, проведение свадьбы в национальных костюмах. Однако в целом современная мокшанская свадьба утрачивает изначальный сакральный смысл и становится частью театрализованного представления.
Многие обряды воспринимаются не как подлинно сакральное действо, а, скорее, являются простым воспроизведением форм, имевших место в прошлом, своеобразной данью традиции, следование которой не сопровождается глубоким ее осмыслением.
Tatyana I. YANGAIKINA
Pavel N. NAZIN
Historical and Ethnographic Features and Modern Tendencies of Mordovian Wedding Rituals (Based on Field Materials From the Village of Adashevo)
Список литературы Историко-этнографические особенности и современные тенденции мордовской свадебной обрядности (по полевым материалам села Адашево)
- Ауновский В. А. Этнографический очерк мордвы-мокши (1969 г.) // Мордва Российской империи. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2014. С. 314-330.
- Баранов П. Н. Свадебные обряды мордвы-эрзи: (Из быта крестьян Бузаевской и Неклюдовской волостей Ардатовского уезда Симбирской губернии) // Этнографическое обозрение. 1910. № 3-4.
- Государственный архив Пензенской области. Ф-182. Оп. 1. Д. 2065/а. Л. 74 об.
- Декреты Советской власти: в 18 т. Т. 1: 25 октября 1917 г. - 16 марта 1918 г. М.: Гос. изд-во полит. литры. 1957.
- Евсевьев М. Е. Избранные труды: в 5 т. Истори-ко-этнографические исследования / М. Е. Евсевьев. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966. Т. 5.
- Евсевьев М. Е. Мордовская свадьба. Ульяновская (б. Симбирская) губерния, с. Малые Кармалы. М.: Центриздат, 1931. Выпуск 1. С. 296.
- Мартынов А. И. Мордва в Нижегородском уезде (Из заметок 1863 года) // Мордва Российской империи. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2014. С. 21-30.
- Полевой материала автора: Кистенева Любовь Ивановна, 1967 г. р., с. Адашево Кадошкинского района Республики Мордовия, запись 2014 г.
- Полевой материала автора: Янгайкина Раиса Андреевна, 1942 г. р., с. Адашево Кадошкинского района Республики Мордовия, запись 2014 г.
- Русская историческая библиотека (Пензенские десятни). СПб., 1898. Т. 17. С. 214, 216.
- Смирнов И. Н. Мордовское население Пензенской губернии (1874-1975 гг.) // Мордва Российской империи. Саранск, 2014. С. 236.
- Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. Р-57. Оп. 1. Д. 232.
- Циркуляр по вопросу об отделении церкви от государства // Коммунистическая партия и советское правительство о религии и церкви. М.: Госполитиздат, 1959.
- Янгайкина Т. И. Вот бы замуж выйти, да мок-шень панар не найти: Мокшанский наряд: былое и настоящее... // Центр и периферия. 2013. № 4. С. 92-99.
- Янгайкина Т. И. Свадебная атрибутика мокшанской невесты // Центр и периферия. 2014. № 2. С. 90-94.