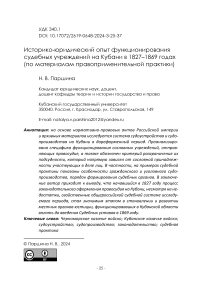Историко-юридический опыт функционирования судебных учреждений на Кубани в 1827-1869 годах (по материалам правоприменительной практики)
Автор: Паршина Н. В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
На основе нормативно-правовых актов Российской империи и архивных материалов исследуется система судоустройства и судопроизводства на Кубани в дореформенный период. Проанализирована специфика функционирования сословных учреждений, отправляющих правосудие, а также обозначен критерий разграничения их подсудности, который напрямую зависел от сословной принадлежности участвующих в деле лиц. В частности, на примерах судебной практики показаны особенности гражданского и уголовного судопроизводства, порядок формирования судебных органов. В заключение автор приходит к выводу, что начавшийся в 1827 году процесс законодательного оформления правосудия на Кубани, несмотря на недостатки, свойственные общероссийской судебной системе исследуемого периода, стал значимым этапом в становлении и развитии местных органов юстиции, функционировавших в Кубанской области вплоть до введения Судебных уставов в 1869 году.
Черноморское казачье войско, кубанское казачье войско, судоустройство, судопроизводство, законодательство, судебная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/147244122
IDR: 147244122 | УДК: 340.1 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-3-25-37
Текст научной статьи Историко-юридический опыт функционирования судебных учреждений на Кубани в 1827-1869 годах (по материалам правоприменительной практики)
С тановление судебных учреждений на Кубани тесно связано с казаче‐ ством, которое осваивало этот регион Российской империи с конца XVIII века. Так, в 1778 году1 Екатериной II был сформирован Кош верных черномор‐ ских казаков из числа бывших запорожцев, чьи поселения были уничтожены государыней несколько лет назад, в 1775 году2.
В 1792 году Черноморскому войску была отведена «в вечное владение» часть приграничных земель для защиты и охраны правобережной Кубани3. Ввиду законодательно установленной сословной замкнутости региона, кото‐ рая выражалась в ограничении проживания на территории войска представи‐ телей неказачьего населения4, местное судоустройство и судопроизводство до 1827 года основывались преимущественно на нормах полуофициального законодательства – «Порядка общей пользы»5, принятого черноморским старшиной в 1794 году. С 1801 года Павел I контролировал работу судебных учреждений в Черномории через специальные экспедиции6.
Полноценное юридическое оформление сословное правосудие на Ку‐ бани получило при императоре Николае I – в Положении 1827 года7.
Согласно данному акту при Войсковой канцелярии8 учреждался Воен‐ ный суд под надзором войскового атамана. В его состав входили: один презус (председатель суда) штаб‐офицерского чина, четыре асессора (члены суда) из обер‐офицеров, один аудитор. Презус и асессоры назначались войсковым ата‐ маном, а аудитор – Аудиториатским департаментом Военного министерства Российской империи. Следует отметить, что аудиторы «не являлись членами суда, а выступали, как правило, либо в роли секретарей, либо наблюдателей за установленным порядком судопроизводства»9.
Военному суду были подсудны все казачьи чины черноморцев, даже не отбывающие очередной службы. Маловажные проступки (пьянство, своеволь‐ ство, нарушение благочиния, кража от 20 до 100 рублей), совершенные ниж‐ ними чинами войска, рассматривались сыскными и куренными начальства‐ ми – представителями местной администрации. На такие административные учреждения возлагалось, кроме того, производство следственных действий в отношении казачек по уголовным преступлениям. Скажем, 23 мая 1829 года на имя наказного атамана Черноморского казачьего войска А. Д. Бескровного от Екатеринодарского земского сыскного начальства поступил рапорт о том,
ПАРШИНА Н. В. __________________________________________________________________ что, согласно донесению из Нововеличковского куренного управления, ка‐ зачка Васса Головатова в период нахождения ее мужа в персидском походе прижила незаконно ребенка мужского пола и «по рождении, придавши смерти, закопала в землю в избе своей под полом За оный поступок взята под стражу и содержится в оном управлении»10.
Что касается военных чиновников, проживающих в войске, то штаб‐ и обер‐офицеры и нижние чины из дворян подвергались суду согласно предпи‐ санию командира Отдельного Кавказского корпуса, а нижние чины не из дво‐ рян – по распоряжению войскового атамана. Приговор таким подсудимым вместе со всем делопроизводством передавался судом войсковому атаману, который направлял его на утверждение командиру Отдельного Кавказского корпуса11. Отметим, что в юрисдикции последнего находилось и утверждение судебного решения в отношении нижних чинов не из дворян, если подсуди‐ мые приговаривались к наказанию в виде битья шпицрутенами с прогоном через строй в тысячу человек более трех раз, что, по сути, приравнивалось к смертной казни. В остальных случаях войсковой атаман единолично утвер‐ ждал приговор и приведение его в исполнение. Необходимо сказать, что нака‐ зание шпицрутенами было сформулировано еще при Петре I в уголовном за‐ конодательстве, нормы которого были ориентированы «на смертную казнь, сопровождающуюся особыми страданиями виновного лица»12.
Представители неказачьего сословия судились в Гражданском суде Чер‐ номорского войска. В соответствии с Положением 1827 года он формировался из войскового судьи, двух заседателей, секретаря и штатной канцелярии. Над‐ зор за судопроизводством осуществлял прокурор, назначаемый министром юстиции Российской империи. Войсковой судья и заседатели избирались на три года из чиновников Черноморского казачьего войска и утверждались в должности корпусным командиром. Секретаря и писарей определяла Вой‐ сковая канцелярия. К подсудности Гражданского суда относились уголовные
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ преступления и гражданские правонарушения, совершенные иногородними, женщинами, дворовыми людьми и крестьянами. Иски на сумму более 300 руб‐ лей, дела о лишении жизни и чести Гражданским судом не рассматривались, а направлялись в Кавказскую палату уголовного и гражданского суда. С 1828 года сумма иска для Гражданского суда была увеличена до 500 руб‐ лей13. В связи с упразднением в июле 1827 года Кавказской палаты уголовного и гражданского суда иски, превышающие указанную сумму, стали разреша‐ ться новым органом – Кавказским областным судом. Дела об опеке над мало‐ летними казаками, наследовании тоже находились в юрисдикции Граждан‐ ского суда Черноморского войска14.
Например, в период с 1 января 1830 года по 31 декабря 1834‐го в произ‐ водстве данного судебного учреждения находилось дело о наследовании де‐ нежных сумм и вещей умершего сотника Григория Виташевского его сыном – корнетом 7‐го Черноморского эскадрона лейб‐гвардейского Казачьего полка Аркадием Виташевским15. В материалах этого дела сохранились подробные сведения о наследственной массе, принадлежавшей Г. Виташевскому. В том числе информация о праве взыскания наследником умершего денежных средств, шестнадцать лет назад одолженных наследодателем однодворцу Орловской губернии Алексею Селиванову в размере 135 рублей 75 копеек. По этому поводу из Гражданского суда Черноморского войска 22 декабря 1830 года на имя командующего лейб‐гвардией 7‐м Черноморским эскадроном ротмистра Г. А. Рашпиля поступило донесение № 5067 о том, что в войсковом Гражданском суде было заслушано сообщение Орловского губернского прав‐ ления № 64166. В нем говорилось, что деньги А. Селивановым Г. Виташев‐ скому, согласно рапорту орловской городской полиции № 6900, возвращены не были. В духовном завещании, составленном 16 августа 1810 года сотником Г. Виташевским, упоминалось, что орловский купец А. Селиванов должен ему вышеуказанную сумму. Эти сведения были переданы в Орловское губернское правление. По распоряжению губернского правления орловская городская по‐ лиция 21 октября 1829 года сообщением № 6899 донесла в Гражданский суд Черноморского войска, что А. Селиванов был допрошен по поводу займа де‐ нежных средств у Г. Виташевского и в ходе дачи показаний по делу пояснил, что по расписке он получил от Г. Виташевского шестнадцать лет назад 135 рублей 75 копеек, однако за указанную сумму передал заимодавцу бичеву со дня рыбной ловли в Екатеринодаре на Ейской косе16. Также орловской полицией были представлены письменные показания должника.
По данному делу суд заключил, что ввиду наступления своего совершен‐ нолетия сын Г. Виташевского Аркадий как наследник имеет право взыскать вышеупомянутый долг с А. Селиванова, поскольку письменные сведения о денежном займе Г. Виташевского А. Селиванову хранятся в позашнуренной книге Войскового казначейства. Эта информация наследнику была письмен‐ но адресована Гражданским судом Черноморского войска через командира 7‐го Черноморского эскадрона полковника Миргородского. В данном случае Гражданский суд счел недостаточным основанием показания А. Селиванова о том, что денежные средства в таком размере были получены от заимодавца за бичеву, и оставил за наследником умершего право предъявить иск долж‐ нику. Важно подчеркнуть, что суд в мотивировочной части своего решения не ссылался на нормы действующего права. Это наглядно свидетельствует не только об отсутствии юридической грамотности должностных лиц – предста‐ вителей дореформенной юстиции, но и о законодательной регламентации правил протоколирования судебного процесса.
Далее, как видно из постановления Гражданского суда, к исполнению его решения привлекалась местная администрация. Этот факт многократно фиксируется в материалах данного дела. Например, 20 января 1834 года Граж‐ данским судом было отослано прошение № 187 на имя командующего лейб‐ гвардии 7‐м Черноморским эскадроном полковника и кавалера Г. А. Рашпиля. В нем ему повелевалось сообщить «служащему вверенного... эскадрона Арка‐ дию Виташевскому... что принадлежащие ему по наследству по смерти отца его Сотника Григория Виташевского состоящие в ведении сего суда вещества кроме иконы Божьей Матери под серебром как‐то: сабля турецкая в коей ножны серебряные вызолоченные с пятью красными камушками... серебря‐ ная посуда... и серьги золотые с маленькими жемчужинами... будут высланы ему в Санкт‐Петербург»17.
Длительность нахождения в производстве Гражданского суда данного дела (более четырех лет) во многом объяснялась несовершенством местной судебной системы, вовлечением в работу суда администрации. Военачаль‐ ники выступали посредниками между наследником и судебной инстанцией. Так, виднейший цивилист XIX века Т. М. Яблочков по этому поводу писал: «...крупным недостатком дореформенного процесса является смешение вла‐ сти судебной с административной. Судебные места находились под надзором администрации [Губернских Правлений и Губернаторов]... Решение бесспор‐ ных дел было вверено полиции... <...> Исполнялись судебные решения вла‐ стями, не стоявшими в подчинении у суда и ему неответственными за свои упущения»18. Данные обстоятельства препятствовали оперативному разреше‐ нию гражданских дел, которые перманентно кочевали из одной инстанции в другую.
Этот же недостаток был характерен и для уголовного судопроизводства. Так, 26 апреля 1836 года командующему 4‐м конным полком есаулу и кава‐ леру Шпилевскому поступил циркуляр от генерал‐майора Н. С. Завадовского, наказного атамана Черноморского казачьего войска. В нем шла речь о завер‐ шении следствия Екатеринодарским земским начальством над пятью преступ‐ никами: Иваном Крижановским, Леонтием Гречкою, Шкрябенком, Алексеем и Ефимом Волком для передачи в Военный суд, учрежденный при Черномор‐ ской войсковой канцелярии19. Н. С. Завадовский приказал Шпилевскому не‐ медленно доставить в Военный суд сведения, запрошенные у него по этому делу, а затем отчитаться о выполнении данного поручения20.
Дела в порядке упрощенного производства в Черноморском казачьем войске рассматривались Мировым судом. Деятельность данного учреждения, основанная на обычаях черноморцев, заключалась в проведении внесудеб‐ ных примирительных процедур между истцом и ответчиком по гражданскому делу. Каждая из сторон имела право избрать от трех до пяти посредников из числа посторонних людей для разрешения возникшего спора. Тяжущиеся были обязаны предоставить посредникам подписку о том, что не станут обжа‐ ловать данное решение в Гражданский или Военный суды. При этом цена иска не могла превышать 300 рублей21.
Следующий виток развития судебной системы в Черноморском каза‐ чьем войске относится к 1842 году22, когда Николай I устранил прежнее императивное разграничение подсудности дел по критерию сословной при‐ надлежности, упразднив Гражданский суд. Решение было связано с увеличе‐ нием числа постоянных жителей неказачьего сословия на территории Черно‐ морского войска23. Ликвидация Гражданского суда в итоге спровоцировала путаницу в вопросах подсудности уголовных дел, где обвиняемый принадле‐ жал к неказачьему сословию. Так, в 1844 году в Правительствующем Сенате был заслушан рапорт военного министра Российской империи А. И. Черны‐ шева, доложившего, что к нему поступило представление командующего вой‐ сками на Кавказской линии и в Черномории. В данном документе содержа‐ лось прошение разъяснить порядок «суждения проживающих в пределах Черноморского казачьего войска лиц, не принадлежащих казачьему сословию и военному ведомству»24. В ответ было принято законодательное решение, согласно которому уголовные дела из бывшего Гражданского суда передава‐ лись в подведомственность Комиссии военного суда, учрежденной, согласно Положению 1842 года, при Войсковом дежурстве.
Комиссия военного суда была представлена следующими членами: пре‐ зусом, штаб‐офицером, четырьмя асессорами и аудитором. Презус избирался наказным атаманом и по его представлению утверждался в должности коман‐ дующим войсками на Кавказской линии и в Черномории. Асессоры из числа казачьих чиновников назначались войсковым правительством на три года. Их кандидатуры, как и кандидатуру презуса, утверждал командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории.
Рассматривая уголовные дела в отношении представителей неказачьего сословия, а также женщин‐казачек, суд должен был ссылаться на общеуголов‐ ные законы Российской империи. То есть при квалификации преступлений, ко‐ торые совершались казаками, суд руководствовался нормами Устава военно‐ уголовного 1839 года25, а в отношении других сословий – положениями общеимперского законодательства: Сводом законов Российской империи 1832 года (т. XV, кн. I «О преступлениях и наказаниях вообще»)26 и Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года27.
Приговоры Комиссии военного суда утверждались наказным атаманом, которому вверялись также и полномочия по их исполнению. Если число под‐ судимых по одному уголовному делу превышало девять человек либо если среди обвиняемых были лица дворянского происхождения – приговор пере‐ давался командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории, а тот направлял его для утверждения в Правительствующий Сенат.
Помимо Комиссии военного суда, которая была органом, действующим постоянно, в войске учреждались временные военно‐судные комиссии, рас‐ сматривавшие уголовные дела при окружных дежурствах. С 1849 года в состав таких комиссий в качестве презусов и асессоров было запрещено назначать казаков, находящихся на внешней или кордонной службе. Временные военно‐ судные комиссии формировались из презуса (из числа штаб‐офицеров) и трех асессоров (из числа обер‐офицеров, состоящих на льготной службе)28. Данная мера стала необходимой ввиду невозможности эффективного отправления казаками одновременно военных и судейских полномочий.
Вообще, система судоустройства и судопроизводства в войске была крайне непродуманной, изобилующей законодательными пробелами и кол‐ лизиями. Дореформенному уголовному правосудию во всей империи были присущи такие изъяны, как «массы инстанций, различная организация судов в зависимости от сословия, к которому принадлежит подсудимый... и преоб‐ ладание канцелярии»29.
Из общего числа подсудимых, согласно Отчету по военному управлению Черноморского казачьего войска за 1844–1845 годы30, под стражей в 1844 году находилось 268 человек, в 1845‐м – 282. Подсудимых – уроженцев Черномор‐ ского войска за 1844 год осталось 45 человек. В течение 1845 года к уголовной ответственности в качестве подозреваемых в совершении преступления было привлечено 94 человека. В соответствии с Манифестом от 16 апреля 1841 г.31 от уголовной ответственности освобождено 6 человек. По результатам судеб‐ ного разбирательства в 1844 году оправдано 22 человека, в 1845 – 26. Остав‐ лено в подозрении в 1844 году 14 человек, в 1845 – 13. Осужденным на ка‐ торжные работы в 1845 году числился один человек (в 1844‐м это наказание в Черномории не назначалось). На поселение в арестантские роты в 1844 го‐ ду было отправлено 24 человека, в 1845 – 33. К телесным наказаниям шпицрутенами в 1844 году приговорено 15 человек, в 1845 – 22. В 1844 году через полицейских смотрителей наказанию плетьми подверглось 37 чело‐ век, розгами – 11. В 1845 году такие наказания были применены к 36 и 22 осужденным соответственно. Большинство осужденных – лица мужского пола в возрасте от 21 года до 40 лет32.
В общем, статистические сведения о числе уголовных дел, возбужден‐ ных в 40‐х годах XIX века на территории Черноморского войска, свидетель‐ ствуют о росте преступности. Поэтому государство предприняло соответству‐ ющие превентивные меры для борьбы с правонарушениями, и в частности с кражами. Так, в 1848 году было принято решение, согласно которому казаков Черноморского казачьего войска, изобличенных в воровстве (за исключе‐ нием тех, кто по закону не подлежали ссылке в арестантские роты), следо‐ вало по приговору суда отправлять в войсковой Ачуевский рыболовный за‐ вод. Заработная плата осужденного, полученная на заводе, обращалась в доход потерпевшего, при этом треть заработка передавалась на содержание семьи виновного33.
Гражданские споры находились в юрисдикции окружных судов: Таман‐ ского, Екатеринодарского и Ейского. Эти суды рассматривали дела в отноше‐ нии лиц всех сословий, проживающих на территории Черноморского войска. В состав окружного суда входил судья, который избирался наказным атама‐ ном на три года и утверждался в этой должности командующим войсками на
Кавказской линии и в Черномории, и два заседателя. Последние избирались чиновниками и рядовыми казаками из своей среды и утверждались в этой должности наказным атаманом. При этом казак в качестве заседателя прини‐ мал участие только в тех гражданских спорах, где одной из сторон являлось лицо, принадлежащее к его же сословию. В последующем число заседателей в окружных судах Черноморского казачьего войска было увеличено с двух до трех34.
Помимо вышеуказанных учреждений, судебными функциями наделя‐ лись окружные сыскные начальства, которые работали в каждом из трех окру‐ гов Черноморского войска. В состав окружного сыскного начальства входило пять членов: сыскной начальник, два заседателя из чиновников и два – от ка‐ заков. Полномочия окружных судов в Черноморском казачьем войске соответ‐ ствовали компетенции уездных судов губернского управления, за исключе‐ нием уголовных дел, а полномочия сыскных начальств – компетенции земских судов.
При сыскных начальствах учреждались словесные и мировые суды, ко‐ торые в своей работе должны были руководствоваться общеимперским зако‐ нодательством: Уставом благочиния или Полицейским 1782 года35 и Положе‐ нием о третейском суде 1831 года36. Кроме того, предполагалось учреждение в войске Торгового словесного суда. Данный орган предназначался для разре‐ шения в ходе устного производства коммерческих споров, возникающих как между торговыми казаками, так и между представителями других сословий. Однако в итоге Торговый словесный суд начал работу лишь в марте 1860‐го37. В этом же году Черноморское казачье войско стало частью Кубанского38. На территории проживания черноморцев была образована Кубанская область39.
Следует отметить, что Судебные уставы 1864 года40 были введены здесь только в 1869 году41.
Таким образом, для судоустройства и судопроизводства на Кубани в 1827–1869 годах было характерно невнимание к фундаментальным принци‐ пам судебного права42, что подтверждалось главным образом отсутствием принципа невмешательства административных учреждений в деятельность правосудия, что было свойственно фактически всей общероссийской практике до второй половины XIX века. Кроме этого, трудности в построении эффектив‐ ной судебной системы были вызваны спецификой социальной организации местного населения. Данное обстоятельство подразумевало законодательную регламентацию судебной юрисдикции в зависимости от принадлежности субъекта к казачьему либо неказачьему сословию, с чем государство не всегда своевременно справлялось.
Вместе с тем важно подчеркнуть, что принятие Положений о Черномор‐ ском казачьем войске в 1827 и 1842 годах явилось своеобразным правовым апофеозом того периода, поскольку в данных нормативно‐правовых актах впервые регламентировалась персональная подсудность уголовных и граж‐ данских дел в зависимости от принадлежности субъектов к той или иной со‐ словной группе. Именно в рассматриваемый период на Кубани был урегули‐ рован порядок разрешения гражданских споров, в которых в качестве сторон принимали участие представители в том числе неказачьего сословия, и регла‐ ментирован процесс привлечения к уголовной ответственности всех категорий местных жителей. Оформившаяся в течение 1827–1869 годов судебная си‐ стема сохранялась вплоть до введения в Кубанской области новелл судебной реформы Александра II в 1869 году.
Список литературы Историко-юридический опыт функционирования судебных учреждений на Кубани в 1827-1869 годах (по материалам правоприменительной практики)
- Большакова В. М., Холиков И. В. Теоретическое исследование системообразующих принципов организации судебной системы // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. Вып. 4 (58). C. 579–604.
- Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М.: Склад изд. в книжном магазине М. В. Клюкина, 1908 (Тип. А. П. Поплавского).
- Паршина Н. В. Правовое регулирование общественного устройства и земельных отношений казачества юга России (XV – начало XX вв.): моногр. Бийск: АГАО, 2015.
- Сафин Л. Р. Исторический очерк правового регулирования наказаний, не связанных с изоляцией от общества по уголовному праву России // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2023. Вып. 1 (59). C. 142–158.
- Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска: в 4 т. / собр. и изд. И. И. Дмитренко. Т. 2: Бумаги императрицы Екатерины II, Потемкина‐Таврического, Суворова‐Рымникского, Голенищева‐Кутузова, де‐Рибаса, де‐Нассау‐Зиген, И. Е. Потемкина, Меллера‐Закомельского, Горича, Кречетникова [и др.]. 1787–1795 гг. СПб.: Тип. Штаба отд. корп. жанд., 1896.
- Яблочков Т. М. Учебник Русского гражданского судопроизводства. Ярославль: типо‐лит. торг. дома А. Г. Фальк и К°, 1910.
- Янчев А. С. Аудиториат в структуре Военного ведомства // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 27 (281). Серия: Право. Вып. 32. С. 129–131.