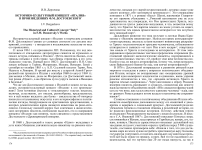Историко-культурный концепт "Италия" в произведениях Ф.М. Достоевского
Автор: Дергачева Ирина Владимировна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Память культуры
Статья в выпуске: 68, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается содержание историко-культурного концепта «Италия», выявленного в произведениях Ф.М. Достоевского. В творческом наследии писателя этот концепт представлен в двух основных ракурсах: как выражение его интереса и его отношения к итальянскому искусству, отраженному в художественных текстах, публицистике и письмах, особенно в романе «Идиот», так и в виде его историософских и политических взглядов на католицизм и вопрос политического объединения Италии. Содержание концепта выражает осуждение Достоевским римо-католицизма, которое он связывал с древнеримской идеей мирового господства. Кроме того, в содержании концепта выражены упреки писателя в адрес католиков, предавших, по его мнению, Христа «за царства земные» и следующих за антихристом в жажде стяжания земных благ. Содержащийся в концепте диссонанс между симпатией Достоевского к Дж. Гарибальди как национальному герою итальянского Рисорджименто и скепсисом по отношению к политическому объединению Италии объясняется сложными взглядами писателя на роль Италии как государства, призванного объединить народы мира на основе принципов красоты, традиционно воплощенных в ее искусстве. Особое место в содержании концепта «Италия» принадлежит Флоренции, «жемчужине» эпохи Возрождения, которая ассоциировалась у Достоевского с образом рая и являла собой образ красоты, призванной объединить мир на принципах всеобщей любви к Христу и тем самым спасти мир.
Ф.м. достоевский, италия, рисорджименто, римо-католицизм, дж. гарибальди, флоренция
Короткий адрес: https://sciup.org/149136543
IDR: 149136543
Текст научной статьи Историко-культурный концепт "Италия" в произведениях Ф.М. Достоевского
Историко-культурный концепт «Италия» в творческом сознании Ф.М. Достоевского связан со сложным синтезом его детских восприятий, а позднее - с интересом к итальянскому искусству во всех его проявлениях.
31 июля 1861 г. он признавался Я.П. Полонскому, что под впечатлением от итальянских литературных сюжетов он стремился «с самого детства, побывать в Италии»1. Мечта писателя сбылась, и он трижды побывал в этой стране, чьи образы отразились в его «итальянских» текстах. Первый раз в 1862 г. Достоевский с Н.Н. Страховым побывал в Турине, Флоренции, Милане, Венеции. Затем с сентября по октябрь 1863 г. с А.П. Сусловой посетил Турин, Рим, Неаполь и Ливорно. В третий раз вместе с супругой Анной Григорьевной они прожили в Италии с сентября 1868 по август 1869 гг.: два месяца в Милане, далее во Флоренции, где Достоевский закончил роман «Идиот», а на обратном пути супруги заехали в Венецию и Болонью2.
Что же для Достоевского связано с Италией и можем ли мы выделять историко-культурный концепт «Италия» в его произведениях? Хотя мотивная система в «итальянских» текстах писателя, включая, естественно, его письма, разнообразна, представляется, что в ней можно выделить два блока - свидетельства об интересе писателя к итальянскому искусству и его историософские и политические взгляды, базирующиеся на христианских представлениях, в которых семантическим ядром являются инвективы на римо-като-лицизм. Поскольку папский вопрос был ключевым в аксиологических воззрениях писателя, необходимо выделить его в содержании концепта «Италия» как понятие, тесно связанное с представлением Достоевского о Древнеримской империи.
В 1868 г. Достоевский в тексте романа «Идиот» вкладывает в уста князя Мышкина уничижительную инвективу на римское като- личество, называя его «верой нехристианской», которая «даже хуже самого атеизма», ибо «антихриста проповедует»3. Это утверждение повторяет в 1871 г. в романе «Бесы» Шатов, напоминая Ставрогину его прежние убеждения: «...Римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир»4.
Дальнейшее развитие эта тема получает в легенде Ивана Карамазова о «Великом инквизиторе». Используя прием автохарактеристики персонажа, писатель устами великого инквизитора раскрывает Христу эсхатологическую трагедию человечества, соблазненного антихристом и взявшего «от него Рим и меч кесаря»5, отвергшись тем самым от Христа и последовав за антихристом. В этом закодированном прецедентными текстами пророческом откровении Достоевский приводит аксиологические концепты, повторяющиеся в его художественных текстах: «О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией»6.
В 1876 г. Достоевский возвращается к развитию римской идеи мирового господства в связи с вопросом политического объединения Италии, которое он воспринимает как «воскрешение древней римской идеи всемирного владычества и единения», вновь упрекая римское католичество в том, что «продажа истинного Христа за царства земные совершилась»7. Через апелляцию к образу Римской империи писатель раскрывает и сущность социализма как некоего насильственного объединения людей: «Ибо социализм французский есть не что иное, как насильственное единение человека - идея, еще от древнего Рима идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся»8.
Сложное отношение к политическому объединению Италии объясняется своеобразным диссонансом между его симпатией к демократам и неверием в социальный прогресс. Достоевский разделял убеждения Герцена в отношении общины в российской истории, но не разделял революционные воззрения. Поэтому действия героев итальянского Рисорджименто вызывали у писателя скепсис. В письме к С.А. Ивановой 1867 г. Достоевский описывает Конгресс мира, состоявшийся в Женеве, куда приехал и Гарибальди, вскоре, его, однако, покинув. Писатель саркастически описывает дальнейший ход заседания, когда его участники «врали с трибуны перед 5 000 слушателей», постоянно противореча себе: «Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделать маленькие; все капиталы прочь, чтоб всё было общее по приказу, и проч. Всё это без малейшего доказательства, всё это заучено еще 20 лет назад наизусть, да так и осталось. И главное, огонь и меч - и после того как всё истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир»9.
Со второй половины XIX в. Италия, в которой разворачивалось активное движение по ее объединению, постоянна находилась в центре внимание российской прессы. Уже с последней четверти XVIII в. Россия имела официальные отношения с отдельными итальянскими государствами и поддерживала их до создания в 1870 г. объединенного итальянского государства. «В 1803 г. учреждается российская миссия в Риме во главе с посланником, аккредитованным при папском дворе. Однако российский посланник при Ватикане так и не выехал к месту назначения, ибо в мае 1804 г. русское правительство разорвало отношения с Ватиканом. Они были восстановлены лишь после разгрома Наполеона, ликвидации французского господства в Италии и возвращения папы в Рим (1815 г.). После объединения Италии и превращения Рима (1871 г.) в столицу итальянского государства папа был лишен светской власти. Российская миссия в Риме была преобразована в посольство»10.
Борьба Италии за национальную независимость отражалась активно и на страницах литературно-политических журналов, в которых Достоевский выступал издателем и автором, - «Время», «Эпоха», «Гражданин». А.Е. Разин, возглавлявший «Политическое обозрение» журнала «Время», большое внимание уделял освещению «итальянского вопроса» и, в частности, описанию личности Гарибальди, подробно описывая его сражения за национальное объединение Италии. Его симпатию к личности итальянского генерала разделял и Ф.М. Достоевский. Так, в 7-й главе «Зимних заметок о летних впечатлениях», рассказывая о своем первом путешествии по Европе в 1862 г., Достоевский приводит историю, услышанную в Италии от одного француза за две недели до Аспромонте, подчеркивающую благородство и честность итальянского полководца. Француз поведал людям, собравшимся за табльдотом, что у него вызывает безмерное удивление благородство Гарибальди, который в 1860 г. в Неаполе, обладая неограниченной властью, имел на руках огромную сумму казенных денег. Рассказчик был безмерно удивлен тем, что он «сдал правительству всё счетом до последнего су. Это почти невероятно»11.
Подобное уважительное отношение к герою итальянского Ри-сорджименто разделял и сам Достоевский. Так, Анна Григорьевна в своих «Воспоминаниях» подчеркивает, что Гарибальди произвел приятное впечатление на обоих супругов. Она описывает блестящий прием, оказанный Гарибальди на Конгрессе мира в Женеве, когда город был украшен флагами, а народ с нетерпением встречал национального героя Италии: «Гарибальди, в своем оригинальном костюме, ехал в коляске стоя и размахивал шапочкой в ответ на восторженные приветствия публики. Нам удалось увидеть Гарибальди очень близко, и мой муж нашел, что у итальянского героя чрезвы- 176
чайно симпатичное лицо и добрая улыбка»12.
Однако несмотря на личную симпатию к Гарибальди, политическое объединение Италии писатель воспринимает как некое продолжение древнеримской идеи мирового господства, вызывающее у него скепсис и порождающее отрицательные коннотации. Он задается вопросом: даже если мировая идея римского господства «износилась и вся истратилась... но ведь что ж наконец получилось вместо-то нее, с чем поздравить теперь-то Италию, чего достигла она лучшего-то после дипломатии графа Кавура? А явилось объединенное второстепенное королевствицо, потерявшее всякое мировое поползновение, променявшее его на самое изношенное буржуазное начало королевство, вседовольное своим единством, ровно ничего не означающим, единством механическим, а не духовным (то есть не прежним мировым единством)...»13.
Так почему же Достоевский преуменьшал значение национального объединения? В последние годы жизни писатель разделял па-невропейскую концепцию, идеальным выражением которой стала личность А.С. Пушкина, писателя глубоко национального, «все-человека», по выражению Достоевского. О возможности русского человека ценить и вбирать в себя лучшие черты мировой культуры говорится в «Подростке», где национальной русской чертой названа возможность в любой стране чувствовать себя ее гражданином, становясь тем самым все более русским14. Вероятно, поэтому Достоевский и отнесся скептически к политическому объединению Италии, которое он назвал механическим, не поддержав политическую позицию премьер-министра Сардинского королевства Кавура15. К тому же писатель видел предназначение Италии в объединении всего человечества на основе духовной красоты, которая одна способна его спасти. Об этом он писал в «Дневнике писателя» 1877 г., выражая уверенность в том, что народ Италии за века существования римской цивилизации осознал свою роль носителя мировой идеи, а наука и искусство прониклись «мировым значением»: «2500 лет носила в себе Италия мировую и объединяющую мир идею - не отвлеченную какую-нибудь, не спекуляцию кабинетного ума, а реальную, органическую, плод жизни нации, плод мировой жизни: это было объединение всего мира - сначала древнеримское, потом папское»16.
Взгляды Достоевского на итальянское искусство, составлявшие содержание историко-культурного концепта «Италия», можно рассматривать в двух аспектах - представления писателя, основанные на блестящем знании итальянской культуры, опосредованные литературными источниками, и непосредственные впечатления, почерпнутые писателем во время его трех итальянских путешествий, наиболее длительное из которых он совершил с Анной Григорьевной. Особенно долго он прожил с супругой во Флоренции, введя имплицитно образы «жемчужины Возрождения» в текст законченного там романа «Идиот», в котором утвердился в мысли, что «мир красотой спасется». Образы незримого рая, расположенного за чертой, «где небо с землей встречается», где понятие о «новой жизни» отсылает нас к одноименному видению Данте Алигьери, ассоциируется у князя Мышкина с Неаполем, долгое время игравшим особую роль в жизни Италии как столица Королевства обеих Сицилий: «.. .Там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней, чем у нас; такой большой город мне всё мечтался, как Неаполь, в нем всё дворцы, шум, гром, жизнь... »17.
Аллюзии на рай повторяются в семантических ассоциациях в эпистолярном наследии писателя применительно к разным итальянским городам. Так как рай является священным пространством, он порождает идеальное я, к которому аксиологически причастен князь Мышкин, вступивший в далекой Швейцарии в евангельскую историю о спасении Мари (отсылка к Марии Магдалине). Идеализация итальянского пространства в качестве явленного рая ведет к его имплицитному преображению в рай искомый, который, однако, напрасно ищет князь на эсхатологической карте Москвы и Санкт-Петербурга, пребывающих при третьем всаднике, возвещающем апокалиптическое преображение мира, о чем хорошо известно Лебедеву: «...Мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как всё в нынешний век на мере п на договоре, и все люди своего только права и ищут... Но на едином праве не сохранят, и за сим последует конь бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад...»18.
М. Г. Курган противопоставляет локусы иного мира, запечатленные в сознании писателя как оппозиции Петербург - ад и Италия - рай19. Она дает блестящее описание locis inferno в художественных произведениях Достоевского. Однако сложно согласиться, что «похоже внутри данного противодействия указанные полюса полностью поменяют свое значение. Спустя много лет Достоевскому вместе с женой суждено будет провести в когда-то столь желанной Италии, во Флоренции, несколько мучительных месяцев. У Достоевских не было денег на отъезд, и они были вынуждены жить в условиях страшной жары, тесноты съемной квартиры и отсутствия средств. Именно в этот период в письмах формируется значимая параллель, связавшая обитание во Флоренции с образом ада (что прежде было прерогативой Петербурга)»20.
По нашим наблюдениям, образы Италии оказали на писателя неизгладимое впечатление и прямо или имплицитно отразились в его художественном повествовании. На это определенно указывают письма писателя, направленные родным и друзьям во время его вынужденного заграничного путешествия, отрывки из которых приводим в хронологическом порядке.
Письмо С.Д. Яновскому 1 (13) - 2 (14) ноября 1867 г. (Женева): «Мысленно я следовал за Вами и сопровождал Вас и в Риме, и в Неаполе, вспоминая свое пребывание в Италии, в Риме и Неаполе, 178
представлял себе, как Вы останавливаетесь перед шедеврами искусства. Из всего путешествия в южную Италию только об искусстве я вспоминаю с удовольствием и радостью. Что до природы, то она меня восхитила только в Неаполе. В Северной Италии, то есть в Ломбардии, природа несравненно прекраснее. Вы побывали в Милане; но ездили ли Вы на озеро Комо, которое находится поблизости? И почему, почему было не добраться до Венеции? Это непростительно. Потому что Венеция не только очаровывает, она поражает, она пьянит. Но мы побываем в Венеции в другой раз вместе»21.
Письмо А.П. и В.М. Ивановым 1 (13) января 1868 г. (Женева): «Мы, было, хотели в Италию, то есть, конечно, в Милан (не далее же), где климат зимой несравненно мягче, да и город привлекательнее, с его собором, театром и картинными галереями... Может быть, в апреле в конце переедем через Мон-Сенис и спустимся в Италию, в Милан, на озеро Комо. То-то рай-то будет!»22.
Письмо А.Н. Майкову 11 (23) декабря 1868 г. (Флоренция): «Флоренция хороша, но уж очень мокра. Но розы до сих пор цветут в саду Boboli на открытом воздухе. А какие драгоценности в галереях! Боже, я просмотрел «Мадонну в креслах» в 63-м году, смотрел неделю и только теперь увидел. Но и кроме нее сколько божественного»23.
Письмо С.А. Ивановой 25 января (6 февраля) 1869 г. (Флоренция): «Здесь во Флоренции климат, может быть, еще хуже для меня, чем в Милане и в Вевее; падучая чаще. Два припадка сряду, в расстоянии 6 дней один от другого, и сделали то, что я опоздал эти 10 дней. Кроме того, во Флоренции слишком уж много бывает дождя; но зато, когда солнце, - это почти что рай. Ничего представить нельзя лучше впечатления этого неба, воздуха и света»24.
В романе «Подросток» Достоевский раскрывает высокий смысл любви к христианским святыням мировой, главным образом, итальянской культуры: «Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их - мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!»25.
Аллюзии на образы иного мира в «итальянских» текстах Достоевского находятся в гармонической связи с его православными представлениями об эсхатологических судьбах души и мира, которые он унаследовал от древнерусской литературы26. Его эсхатологический оптимизм в противовес макабрической тематике средневековой итальянской культуры несет благую весть о Воскресении27. В «Ответе “Русскому вестнику”» Достоевский сопоставляет аксиологичесике представления двух народов, обращаясь, как и в «Легенде о великом инквизиторе», к помощи Пушкина, чьи поэтические строки в качестве блестящего медиатора двух культур проясняют отношение пи- сателя к католическому макабру: «И теперь импровизатор “Ночей” мог бы слышать новый смех над ним северных варваров. Странный мы народ, в самом деле! Очень справедливо, кажется, Пушкин применил к нам стихи Петрарки:
La sotto i giorni nubilosi e brevi
Nasce una gente a cui 1’morir non dole.
Когда нам говорят о смерти, когда клянутся богами ада и указывают нам на смертную секиру и падающие головы, мы слушаем с северною холодностью; нас это не трогает, не ужасает»28.
* * *
Итак, историко-культурный концепт «Италия», вобрав в себя ключевые сакральные образы, содержащиеся в структуре художественного мира Достоевского, обнаруживает развитие смыслового потенциала. Представ в раннем художественном творчестве писателя в качестве выражения идеальной художественной концепции искусства, с текста романа «Идиот» он начинает приобретать глубокие религиозные и историософские смыслы. Можно утверждать, что в мифопоэтике текстового поля концепта актуализируется идеологема красоты, призванной спасти мир и объединить его на высоких духовных принципах всеобщей любви.
Список литературы Историко-культурный концепт "Италия" в произведениях Ф.М. Достоевского
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 28. Кн. 2. Ленинград, 1985. С. 19.
- Supino V. I soggiorni di Dostoevskij in Europa e la loro influenza sulla sua opera. Firenze, 2017.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 8. Ленинград, 1973. С. 450.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 10. Ленинград, 1974. С. 197.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 14. Ленинград, 1976. С. 234.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 14. Ленинград, 1976. С. 235.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 22. Ленинград, 1981. С. 87–91.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 25. Ленинград, 1983. С. 7.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 28. Кн. 2. Ленинград, 1985. С. 224, 225.
- Архив внешней политики Российской Империи МИД РФ (АВПРИ). Ф. 190. Российское посольство в Риме. Опись № 525. Ч.1.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 5. Ленинград, 1973. С. 83, 84.
- Достоевская А.Г. Воспоминания. Москва, 1987. С. 136.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 25. Ленинград, 1983. С. 143.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 13. Ленинград, 1975. С. 377.
- Капилупи С.М. Провидение и катастрофа в европейском романе: Мандзони и Достоевский. Санкт-Петербург, 2019.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 25. Ленинград, 1983. С. 143.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 8. Ленинград, 1973. С. 51.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 8. Ленинград, 1973. С. 167, 168.
- Курган М.Г. Дантовская концепция ада в творческой перцепции Ф.М. Достоевского // Имагология и компаративистика. 2015. № 1 (3). С. 160–176.
- Курган М.Г. Дантовская концепция ада в творческой перцепции Ф.М. Достоевского // Имагология и компаративистика. 2015. № 1 (3). С. 170, 171.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 28. Кн. 2. Ленинград, 1985. С. 356.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 28. Кн. 2. Ленинград, 1985. С. 247, 249.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 28. Кн. 2. Ленинград, 1985. С. 332.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 29. Кн. 1. Ленинград, 1986. С. 10.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 13. Ленинград, 1975. С. 377.
- Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского. Санкт-Петербург, 2001.
- Ossorgin M.M. Holbein’s Visually Polyphonic Dead Christ Reveals Contrasting Perspectives in Dostoevsky’s The Idiot // Dostoevsky Studies, New Series. 2017. Vol. 21. P. 51–68.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 19. Ленинград, 1979. C. 138.