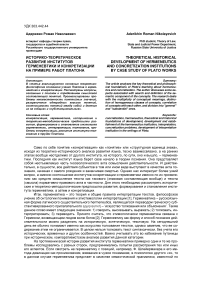Историко-теоретическое развитие институтов герменевтики и конкретизации на примере работ Платона
Автор: Адерихин Роман Николаевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные теоретикофилософские основания учения Платона о герменевтике и конкретизации. Рассмотрены вопросы, связанные с поиском и определением смысловой составляющей понятий. Проанализированы проблемы множественности понятийных значений, разграничения однородных классов понятий, соотносимости понятий между собой и деления их на «общие» и «субстанциональные».
Конкретизация, герменевтика, исторические и теоретико-методологические предпосылки развития, формирование и становление института герменевтики, интерпретация, толкование, проблемы конкретизации, развитие института толкования в трудах платона
Короткий адрес: https://sciup.org/14940743
IDR: 14940743 | УДК: 303.442.44
Текст научной статьи Историко-теоретическое развитие институтов герменевтики и конкретизации на примере работ Платона
Само по себе понятие «конкретизация» как «понятие» или «структурная единица знака», исходя из теоретико-исторического анализа развития языка, тесно взаимосвязано, а на ранних этапах вообще неотделимо от другого института, из которого, по сути, оно и вышло, - герменевтики. Последняя как институт языка берет свое начало в теории познания. Она представляет собой неотъемлемую часть гносеологического акта осмысления действительности. И действительно, в сущности, все действия субъектов в том или ином виде выступают в качестве акта познания, начиная с самого рождения и заканчивая смертью. Однако нас интересует более узкий вопрос, а именно соотношение институтов конкретизации и герменевтики именно по их проявлению как средств осмысления текста как такового (знаковая составляющая вообще) и текста (смысла) нормативно-правового акта в частности. Для этого необходимо рассмотреть исторические и теоретико-методологические предпосылки развития, формирования и становления института герменевтики, а затем и конкретизации.
Итак, герменевтика - это теория и общие правила интерпретации текстов, философское учение об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации [1]. Герменевтика - русскоязычная форма латинского существительного hermeneutica, являющегося переводом греческого субстантивированного прилагательного EppnveuTiKn - ‘искусство толкования или объяснения’. Также данное слово имеет следующие значения: 1) говорить, высказывать, выражать; 2) толковать, интерпретировать; 3) переводить. Принято считать, что этимологически герменевтика связана с Гермесом, возвещающим людям волю богов [2]. Герменевтику как форму и способ познания действительности можно разделить на историческую, эстетическую, текстовую. На сегодняшний день ее обычно понимают именно как искусство толкования текстов, однако заметим, что ее содержание этим не ограничивается. В целом нельзя толковать текст синтаксически, без учета его исторических, временных и других особенностей. Важно учитывать это во избежание путаницы при историческом, компаративистском анализе развития данной категории.
На протяжении всей истории развития института герменевтики примерно одни и те же проблемы исследовались с разных сторон, предпринимались попытки рассмотрения тех или иных его аспектов. Если смотреть на герменевтику с позиций, например, Ф. Шлейермахера и его метода дивинации как проникновения, вживания в чужое понимание, в психологию другого «я», то в данном случае герменевтика предстает в качестве семиотической прагматики, известной по схеме ««субъект - знак, знак - субъект». Однако, прежде чем дойти до такой схемы, интерпретатор должен ознакомиться с содержанием текста и знаков, в нем находящихся, где будет задействована схема «знак - объект, объект - знак», а также некое интегративное единство «субъект -объект - знак, знак - объект - субъект» и т. п. Для большей определенности и увеличения итогового полезного коэффициента за основу, как нам кажется, целесообразно будет взять общую теорию герменевтики, где в виде основных проблемных вопросов выступают проблемы обоснования интерпретации, ее нормативных принципов и типов.
Герменевтика как искусство толкования и объяснения существует с момента появления на свет разумного человека и тесно связана с проблемами гносеологии. Как только возникла изначальная функциональная потребность мышления в исследовании окружающего мира, встал вопрос о необходимости объяснения свойств природы, предметов, явлений, самого индивида и его места в этом мире. Как говорил Платон в диалоге «Кратил, или О правильности имен», «это имя значит человек, потому что прочие животные того, что видят, не рассматривают, не рассчитывают, не соображают; напротив, человек, как только увидел, тотчас сообразил и рассчитал, что увидел...» [3]. То есть свойства рассмотрения, толкования, уяснения присущи человеку и являются одними из его отличительных и сущностных свойств. Что касается исторического развития, то на сегодняшний день практически отсутствуют источники, прямо указывающие на выделение института герменевтики в самостоятельный способ объяснения в традиции древневосточных государств. Это прежде всего характеризуется специфическим восприятием, мировоззрением данных цивилизаций, где всё, включая человека, воспринимается как нечто цельное, как не двойственность бытия, вечное движение и самообновление, неповторяющееся различие, истинная природа сознания, само-отсутствие [4]. Поэтому зачатки данного института необходимо искать в так называемой европейской традиции, а именно в Древней Греции.
Так, первое, насколько можно утверждать, упоминание института герменевтики находим в поэме Овидия «Метаморфозы», где мифологический Гермес приносил с Олимпа вести от богов посредством аллегорий - чудес и видений, которые необходимо было «расшифровать», интерпретировать. Аналогичную роль Гермеса можно проследить в поэмах Гесиода «Труды и дни», Гомера «Одиссея» и других литературных памятниках Древнего мира [5]. В частности, Гомер проводил различие между именами предметов, которые в одном случае даются им людьми, в другом случае - богами. То есть уже Гомер разграничивал субъективные усмотрения людей в отношении толкования предметов и, так сказать, естественные, или «гармоничные», правила природы, под которыми он подразумевал деятельность «богов». По словам В. Дильтея, «Аристарх ( древнегреческий писатель. - выделено А. Р. ) уже сознательно действовал согласно принципу строгого и всеобъемлющего установления гомеровского языкового узуса, на чем и основывалось его объяснение, определение текста» [6]. Следовательно, можно сказать, что герменевтика как способ толкования и конкретизации текстов, ее принципы зародились в мифологии. Дальнейшее ее развитие находим в диалогах Платона.
В диалоге «Ион, или Об Илиаде» автор упоминает понятие «рапсодист»: «Рапсодист ведь для слушателей должен быть истолкователем мыслей поэта...» [7]. В диалоге «Тимей» Платон говорит о том, что пророческий дар является уделом человеческого умопомрачения. Но уразумение пророчества есть дело неповрежденного в уме человека, откуда и возникла необходимость в особом племени толкователей при тех, кто прорицает [8]. В диалоге «Кратил, или О правильности имен» автор затрагивает практически все проблемы современной герменевтики, которые часто несправедливо остаются без внимания специалистов, занимающихся данной проблематикой, в том числе авторов, разрабатывающих проблемы конкретизации.
Итак, в диалоге «Кратил, или О правильности имен» Платоном ставится вопрос о том, представляются ли предметы «для нас» и «для других» в нашем субъективном их понимании или же они «сами в себе» имеют некоторую сущность [9]. Истина, отвечает Платон, такова: что каждому из нас кажется, то и есть; возможно ли, чтобы одни из нас были разумны, а другие -безумны [10]? Следовательно, заключает автор, есть предметы, имеющие непреложную сущность сами в себе - не для нас и не от нас, влекомые нашим представлением туда и сюда, а существующие по себе, для своей сущности, с которой срослись.
Далее Платон говорит, что точно так же, как предметы в своей сущности заключают в себе некие свойства, о которых мы можем говорить, что какие-то из них не присущи другим вещам, а соответственно, ложны или же, наоборот, истинны, так и наши действия, равно как и речь или способность говорить что-то, обладают такими параметрами, как истинность и ложность, или правильность и неправильность. То есть, по мнению философа, истина рождается из соответствия предмета и сказанного о нем, о его свойствах, поэтому вещи должны носить имена «естественные», присущие им по природе. Само же понятие имени Платон рассматривает как некое орудие, что делаем мы, так сказать, со своей стороны. Функцией данного орудия является спо- собность разделения основы. Давать же имена и называть что-то чем-то есть прерогатива законодателя, состоящего под надзором диалектика. Диалектик по Платону - это тот, кто может задавать правильные вопросы, а также четко отвечать на поставленные. Следовательно, вещи получают свои имена от природы и «не всякий есть составитель имен, а только тот, кто смотрит на имя каждого предмета в отношении к природе и может вид сего полагать в буквах и слогах» [11].
Далее Платон в ходе диалога делает вывод, что одно и то же название (приводит примеры имен царей и древнегреческих богов) может иметь несколько значений. Например, имя Атрей: «Возьмешь ли несокрушимый, или бестрепетный, или гибельный, во всяком случае имя к нему приложено правильно» [12]. И здесь поднимается проблема, которая не решена по сей день: соотнесение и различие в функциональной направленности однородных классов понятий, например, таких как «конкретизация», «детализация», «уточнение», «уяснение», «прояснение», «толкование» и т. п.
Следует отметить, что сегодня в юридической и другой литературе отсутствуют работы, посвященные детальному изучению данной проблематики. Гораздо чаще авторы рассматривают и разделяют вышеперечисленные и иные понятия по степени или месту, занимаемому ими в процессе правового регулирования. То есть чаще всего можно видеть постановку проблемы с вопросом «где», а не «что». Такое положение дел требует более внимательной проработки данного вопроса, поднятого еще Платоном и не потерявшего актуальность в наши дни.
Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, - деление понятий на «общие» и «субстанциональные» и относящиеся к таковым в качестве атрибутов. Например: «Слова, относящиеся к доброму и прекрасному: пригодное, выгодное, полезное, прибыльное и противное всему этому». Такой вывод Платона совершенно оправдан и отражает принципы экономии мышления и систематизации накопленных знаний. То есть в своем «предельном основании» понятия можно разделить на позитивные и негативные, которые впоследствии в своем бесчисленном множестве делятся на все остальные, более конкретные понятия, выражающие определенное состояние предметов, явлений, процессов, их эмоциональный окрас, синтаксические свойства, время и место их употребления и т. п., где последние в свою очередь делятся на еще более конкретные понятия - и так до бесконечности.
Таким образом, Платон показывает нам, что бесконечные деление, конкретизация понятий должны сообразовываться и взаимодействовать прежде всего с прагматическим целеполаганием субъекта исследования, а также, в соответствии с принципом экономии мышления, быть эстетически симметричными, выражаясь языком естествознания, то есть не порождать бесконечный понятийный хаос, так как какой смысл в неопределенности множества, которое можно только созерцать и восхищаться, но нельзя использовать? Как говорит Платон, «например, недавно добро мы признали сложенным из слов “удивительное” и “быстрое”; но “быстрое”, может быть, произошло из других слов, а “удивительное” опять из других». То есть необходимо четко понимать, что процесс конкретизации представляет собой не перебирание понятий, которые до бесконечности втекают и вытекают одно из другого, но ограничение, извлечение или постановку барьера между этими понятиями на основании вышеупомянутых принципов экономии мышления, разумности, целесообразности и, добавим, прагматичности. В противном случае мы можем прийти к парменидовскому и зеноновскому выводам об отсутствии множественности и движения. К сожалению, при анализе современных работ, приходится констатировать нередкое игнорирование данных принципов.
Следующее положение, которое необходимо рассмотреть у Платона, относится к выражению сущностей предметов и явлений. Автор отмечает: «Имя есть, как видно, подражание посредством голоса тому, чему подражает и что называет подражающий голосом, когда подражает». Далее: «...Слова: течение, шествие и удержание, - выражают ли они буквами и слогами вещи, к которым прилагаются, так, чтобы подражали сущности, или не выражают». Вследствие этого возникает вопрос: вещи, которые данные понятия выражают, могут быть выражены и многими другими подобными понятиями, так как их можно различить между собой? Во-первых, по синтаксическим свойствам. Во-вторых, часто для объяснения какого-либо явления или предмета недостаточно одного понятия. Как говорит Платон, «нужно ли будет одной вещи приписать одно, или с одним смешать многие, - как делают живописцы». Из этого положения следует, что, например, для объяснения какого-либо понятия мы прибегаем к его определению.
Определение, безусловно, является одной из форм конкретизации. Давая определение, мы смешиваем воедино несколько разнородных понятий, отражающих свойства различных явлений, процессов и предметов действительности, и таким образом за счет объема множества понятий упрощаем содержание одного. При этом понятие объема и содержания не совсем согласуется с тем понятием объема и содержания, которое обычно используется в логике. Вследствие этого возникает еще одна проблема, требующая разрешения, - соотносимости понятий. Эта тема должна быть тщательно проанализирована, так как выявление закономерностей построения понятий в определения с целью объяснения объемов других понятий позволит повысить качество научного знания, унифицировать объем понятий и определений в целом.
При дальнейшем анализе работ Платона возникает следующий вопрос: какую же роль играют однородные понятия, то есть однообъемные, направленные на выражение сущности одного и того же? Проблема состоит в том, что сам объект нашего познания бесконечно течет, как говорил Гераклит. Гегель в своей феноменологии духа делает вывод о том, что при определении «сущности» предмета или явления мы «выхватываем» как бы из «истории понятий» нечто «сейчас» и «здесь» и оно для другого субъекта познания уже будет не «сейчас» как было для нас, но уже «было» для него по отношению к нам, то есть не будет «сущностное», не будет «истинно», как для нас оно было. Поэтому суть одного и того же явления мы выражаем многими понятиями. Перефразируя известную фразу, отметим: сколько понятий, столько и названий, которые суть «в одном» и суть разные для всех. В связи с этим можно сказать, что есть понятия, выражающие одно и то же явление по-разному, в зависимости от исторических, культурных, ментальных и других обстоятельств, и понятия, выражающие разные явления, которые тоже взаимосвязаны, но уже не на понятийно-категориальном уровне, а на уровне внутренне присущих самим явлениям свойств, индифферентных по отношению к субъекту познания.
Однако на основании чего и почему понятия отражают тот или иной аспект действительности? По мнению Платона, для выяснения данного вопроса необходимо вернуться к «именам, наложенным богами, которые оттого и являются правильными». Автор предлагает рассматривать буквы в качестве первичной единицы понятия, которые меняют свое значение путем либо присоединения к понятию, либо отделения от него. Так, например, буква «О» может служить для отражения «окружности», буква «Н» - некой «долготы» и т. п. Из связки данных букв получается некое «понятие», которое отражает тот или иной оттенок предмета или явления, в большей или меньшей степени и т. д.
Платон сравнивает данный процесс с живописью: «Составил бы когда-нибудь кто-нибудь, как мы сейчас рассуждали, живописное изображение, похожее на какую-либо вещь, если бы материалов, из которых составляются живописные изображения, природа не представляла подобным вещам, служащим предметами подражания для живописи?» То есть поднимается один из главных гносеологических вопросов: возможно ли познание и как оно возможно? Оно возможно прежде всего благодаря некой «синхронизации» между объектом и субъектом познания. На это, в частности, указывал Аристотель. До Аристотеля данным вопросом занимался Эмпедокл. Согласно его теории, от каждого тела исходят разного рода «эманации» (или истечения). Проходя сквозь пространство, истечения эти достигают других тел и, конечно, оказывают на них воздействие [14]. Таким образом, невозможно было бы отображать окружающие предметы и явления с помощью понятий, если бы сами понятия не затрагивали сущности того, что они хотят выразить, и мы бы просто не понимали друг друга. Совсем другой вопрос, можем ли мы «адекватно» отображать предметы или нет, существуют ли они объективно или же являются порождением нашего разума? Мы не будем заострять внимание на данных вопросах, так как они не представляют интереса в рамках темы нашего исследования. Важно заключить, что слово есть сущностное отражение явлений и предметов действительности, по крайней мере, должно таким быть.
Подводя итоги работы, сделаем несколько важных выводов:
-
1. Понятия «толкование» и «конкретизация» тесно переплетаются в процессе своего исторического развития и становления.
-
2. Понятия как таковые и понятия «конкретизация» и «толкование» в частности требуют пристального изучения с психологической, социальной, языковой, стилистической, юридической и других точек зрения.
-
3. Понятие как содержательная форма категории «смысл» является и предстает в качестве сложного явления, которое должно быть исследовано с позиций «объективного существования», его восприятия «для нас»», а также процесса коммуникации, действующего по схеме «субъект – субъект».
-
4. Представляется необходимым выделить проблему соотнесения и различия в функциональной направленности однородных классов понятий, например, таких как «конкретизация», «детализация», «уточнение», «уяснение», «прояснение», «толкование» и т. п.
-
5. Для выяснения сущности понятий «толкование» и «конкретизация» необходимо изучить такие фундаментальные категории, как «понимание», «уяснение», «форма», «содержание».
Следует отметить, что проблемы конкретизации и герменевтики не исчерпываются обозначенными выше выводами, еще многие аспекты данного вопроса требуют своего анализа. Однако даже то немногое, что проанализировано на примере работ Платона, поможет научному сообществу встать на путь разрешения проблем понятий в целом, конкретизации, герменевтики в частности и, как следствие, правовой конкретизации.
Ссылки:
-
1. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / гл. ред. И.Т. Касавин. М., 2009. С. 144.
-
2. Шлейермахер Ф. Герменевтика / пер. с нем. А.Л. Вольского ; науч. ред. Н.О. Гучинская. СПб., 2004. С. 5.
-
3. Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М., 2013. С. 99.
-
4. См., например: Лао-цзы. Дао-дэ цзин / пер., коммент. В.В. Малявина. М., 2010 ; Малявин В.В. Духовный опыт Китая. М., 2006.
-
5. Васюк А.В. Зарождение и развитие герменевтических идей как условие возникновения юридической герменевтики в России // Вестник Пермского университета. 2010. Вып. 2 (8). С. 16.
-
6. Дильтей В. Собрание сочинений : в 6 т. Т. IV. Герменевтика и теория литературы / пер. с нем. под ред. В.В. Бибихина и Н.С. Плотникова. М., 2001. С. 242.
-
7. Платон. Указ. соч. С. 725.
-
8. Васюк А.В. Указ. соч. С. 17.
-
9. Платон. Указ. соч. С. 89.
-
10. Там же. С.90.
-
11. Там же. С.93.
-
12. Там же. С.97.
-
13. Там же. С.108.
-
14. Греческая философия. Т. I / пер. с фр. В.П. Гайдамака. М., 2006. С. 75.
Список литературы Историко-теоретическое развитие институтов герменевтики и конкретизации на примере работ Платона
- Энциклопедия эпистемологии и философии науки/гл. ред. И.Т. Касавин. М., 2009. С. 144.
- Шлейермахер Ф. Герменевтика/пер. с нем. А.Л. Вольского; науч. ред. Н.О. Гучинская. СПб., 2004. С. 5.
- Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М., 2013. С. 99.
- Лао-цзы. Дао-дэ цзин/пер., коммент. В.В. Малявина. М., 2010
- Малявин В.В. Духовный опыт Китая. М., 2006.
- Васюк А.В. Зарождение и развитие герменевтических идей как условие возникновения юридической герменевтики в России//Вестник Пермского университета. 2010. Вып. 2 (8). С. 16.
- Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. Т. IV. Герменевтика и теория литературы/пер. с нем. под ред. В.В. Бибихина и Н.С. Плотникова. М., 2001. С. 242.
- Греческая философия. Т. I/пер. с фр. В.П. Гайдамака. М., 2006. С. 75.