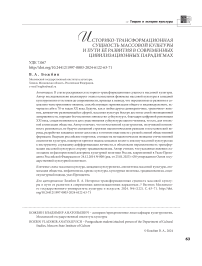Историко-трансформационная сущность массовой культуры и пути её развития в современных цивилизационных парадигмах
Автор: Божбин В.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (122), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается историко трансформационная сущность массовой культуры. Автор последовательно анализирует этапы осмысления феномена массовой культуры в западной культурологии от истоков до современности, приходя к выводу, что перспективы ее развития в социально конструктивное явление, способствующее гармонизации общего и индивидуального, исчерпали себя к 70 м годам XX века. Будучи, как и любое другое демократичное, «рыночное» явление, динамично развивающейся сферой, массовая культура быстро достигла своей эволюционной завершенности, породив бесчисленное множество субкультур и, благодаря цифровой революции XXI века, создав возможность для существования субкультуры одного человека, то есть, для тотальной атомизации общества. Автор отмечает, что отечественной культурологии, получившей возможность развиваться, не будучи скованной строгими идеологическими рамками в постсоветский период, разработки западных коллег достались в готовом виде вместе с резкой сменой общественной формации. Ведущие российские теоретики, стоящие на методологических позициях отечественной социологии культуры, подвергли критике подход западных коллег к анализу массовой культуры как к инструменту, служащему дифференциации личности, и обосновали перспективность трансформации массовой культуры в сторону традиционализма. Автор считает, что указанные явления стали одним из факторов новой доктрины культурной политики России, закрепленной в Указе Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 (ред. от 25.01.2023) «Об утверждении Основ государственной культурной политики».
Массовая культура, западная культурология, апологетика массовой культуры, атомизация общества, инфантилизм, кризис культуры, культурная политика, традиционализм, социокультурный подход, указ президента
Короткий адрес: https://sciup.org/144163315
IDR: 144163315 | УДК: 7.067 | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-6122-63-71
Текст научной статьи Историко-трансформационная сущность массовой культуры и пути её развития в современных цивилизационных парадигмах
БОЖБИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ – аспирант/прикрепленное лицо кафедры культурологии, Московский государственный института культуры
BOZBIN VLADIMIR ANATOLIEVICH – Postgraduate student/attached person of the Department of Cultural Studies, Moscow State Institute of Culture
THE HISTORICAL AND TRANSFORMATIONAL ESSENCE OF
MASS CULTURE AND THE WAYS OF ITS DEVELOPMENT
IN MODERN CIVILISATIONAL PARADIGMS
Vladimir A. Bozbin
Moscow State Institute of Culture,
Особенностью современной действительности является многообразное, всестороннее и все более ускоряющееся тиражирование культурных продуктов и массового потребления. Природа массовой культуры трансформируется под влиянием сдвигов в социальной морфологии и нуждается в обновлении характеристик, в выявлении и анализе отличительных признаков и свойств. В условиях разбалансированного состояния современных общественных, в том числе международных, институтов, кризиса морально-нравственных ориентиров и разрушения традиционных ценностей – черт, присущих современному постмодернизму, – возрастает востребован- ность новых культурологических исследований.
В XIX веке произошли коренные изменения в системе общественного бытия в связи с улучшением качества жизни людей, падением уровня смертности (огромную роль сыграло открытие вакцинации), ростом численности человечества. Развитие технологий, возникновение СМИ (изобретение и внедрение электроснабжения позволило перейти к массовому использованию телефонной связи, телеграфирования и радио) привели к индустриализации и стремительной урбанизации, способствовавших утрате и снижению роли традиционной «сельской» культуры. Развитие модернизма в искусстве натолкнуло на размышления о грядущих изменениях в культуре философа-экзистенциалиста К. Ясперса, психоаналитика З. Фрейда и других. Ученые понимали, что мировоззрение и поведенческие реакции человека будут неминуемо эволюционировать под воздействием имманентных механизмов психической рефлексии, таких как защита, вытеснение, подавление, создание идеальных форм рациональности и многих других [5, с. 119]. Фрейд считал превалирующим биологическое начало в человеке, а значит, неизбежным первоочередность стремления к наслаждению и снижению интеллектуально-энергетических затрат в структуре его потребностей. Для ученого понятия «толпа» и «масса» были совершенно синонимичными, поэтому массу психоаналитик отождествлял с толпой, а поведение масс расценивал как «массовый психоз» [9, с. 170], управляемый безусловными инстинктами. К. Ясперс давал аналогичную оценку культурному статусу массы и сформулировал суть коренной трансформации, произошедшей с информацией [7], где она потеряла ценность продукта культуры (то есть, духовное и культурное значение) и обрела мимолетную ценность ситуативного социального идеала; иными словами, стала использоваться и иметь значение лишь в момент решения конкретной утилитарной задачи или в качестве развлечения.
Ощущение состояния переходности в культуре усилилось в начале XX века. О. Шпенглер в работе «Закат Европы» (1918– 1922 гг.) указывает на интенсификацию стирания границ между социальными сословиями, эмансипацию и урбанизацию масс, развитие индустриального капитализма, снижение статуса гуманитарных наук, развитие технологий, отказ от универсальных моральных, религиозных, экономических догм и формирование разнообразных идеологий как на факторы, приведшие Европу к состоянию пустоты: прежняя система ценностей низложена, а предпосылки к созданию новой отсутствуют. Философ предрекал ев- ропейской культуре гибель, поскольку «Современный горожанин – это новый кочевник и безбожник, для него главное – это деньги и власть, а не героические мифы и патриотизм» [22, с. 165].
Испанский социолог и публицист Х. Ортега-и-Гассет опубликовал в 1930 году трактат «Восстание масс», который также содержит утверждение о грядущем кризисе европейской культурной парадигмы и отсутствии результатов поиска новой. Ученый осознавал ускоряющийся темп и бесконтрольность происходящих социокультурных перемен. Одним из самых опасных явлений он считал колоссальный рост численности толпы (именно так – охлоса, противопоставляемого демосу со времен античности), перемещающейся в города, разорвавшей связи с традиционной духовной культурой, довольствующейся вульгаризированными культурными образцами. Эти процессы привели европейского обывателя к состоянию духовной бедности. Обеспокоенный лишь потреблением и удовлетворением базовых потребностей, человек массы напоминал первобытного человека, случайно очутившегося среди памятников четырехтысячелетней цивилизации [14, с. 112].
В работах французского философа-экзистенциалиста Ж. П. Сартра намечаются первые попытки поиска выхода из духовного кризиса, порожденного массовизацией. В статье «Экзистенциализм – это гуманизм» (1946 г.) Ж. П. Сартр призывал к осознанию того, что научно-технический прорыв не есть качественная эволюция цивилизации: в человеке по-прежнему преобладает биологическое начало, нуждающееся в системе высших измерений личности. При этом философ считал, что усредненность и потребительское, обюрокраченное содержание массовой культуры препятствует свободному, истинному прогрессу, невозможному без внеинституцион-ных цельных человеческих взаимоотношений [18]. В романе «Тошнота» (1938 г.) указанная мысль получила образное воплощение: главный герой (Антуан Рокантен) в результате исканий обретает смысл жизни в творчестве. Он пишет роман, с помощью которого можно будет поделиться испытываемыми чувствами с другими людьми и, возможно, узнать, получив отзывы, что есть люди, претерпевающие аналогичные переживания. Так, «действие порождает свободу» [15, с. 470], то есть становится возможным то самое реальное, не декларируемое, бытие человеческого достоинства. Творчество Ж. П. Сартра позволяет нам увидеть первые, выраженные в образной форме, предпосылки к построению методологии выхода из кризиса духовного вакуума. Можно предположить, что философ пришел к ней эмпирическим путем. Аналогичным образом сформировались из опыта принципы мышления и, как следствие, основанная на природной сущности человека, называемая теперь «традиционной», система ценностей первых человеческих сообществ. Соответственно мы видим самовоспроизводящуюся попытку построить заново некую объединяющую сферу, или «общепринятую традицию» (перевод латинского слова «mores», от которого произошло слово «мораль»), которая станет основой для достижения осмысленного существования, содержащего компонент конструктивной деятельности, и позволит прекратить господство бесконечного потребления атрибутов квазиуспешности.
Итак, к 1940-м годам XX века характерологические черты массовой культуры выглядели следующим образом: 1) обращение к безусловным (первичным) инстинктам человека; 2) апологетика гедонизма; 3) слияние со средствами массовой информации; 4) содержание и выразительные средства, рассчитанные на усредненное восприятие. Однако наметились первые оформленные результаты поиска способов отстроить разрушенную цивилизацию, выразившиеся в аллегории ученого, осуществляющего свою мечту о написании истории «прекрасной и твёрдой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования» [17, с. 256]. По окончании Второй мировой войны западные интеллектуалы заявили о необходимости аккультурации после осознания того, что культура не обладала защитным свойством от массовых проявлений первобытных пластов сущности человека. Они начали заново анализировать гуманистические основания культуры и искусства. Высказывание немецкого социолога Т. Адорно: «Писать стихи после Освенцима – варварство» [10] можно образно охарактеризовать как «философскую гиперболизацию»: классическая культура привела к варварству, значит она сама – варварство. В то же время культурологическая мысль приходит к пониманию элитарной культуры как явления самодостаточного, аристократического, глубокого, содержащего системообразующие ценностные установки. Но в мире, по которому прокатилась невиданная по масштабам война, унесшая по приблизительным оценкам 55–70 миллионов жизней, господствовала массовая культура. Подобное мировоззренческое потрясение стало дополнительным стимулом к осмыслению массовой культуры как феномена, доступного каждому и, возможно, эвентуально обладающего потенциалом к трансформации в созидательную интегрирующую общественную среду. Одним из тех, кто принимал участие в решении вышеозначенной культурологической проблемы, был американский социолог и юрист Д. Рисмен. В книге «Одинокая толпа» (1950 г.) ученый представляет человека эпохи омассовления как стандартизированный до степени обезличенности объект, легко поддающийся манипулированию в состоянии отчужденности, отсутствия устойчивых духовных ориентиров, апатии и цинизма, однако тяготеющего к ценностям, культурным образцам и поведенческим реакциям, позволяющим прийти к искренним отношениям с личным партнером, в которых не будет угнетения и обмана [4, с. 391]. Ярким проявлением тенденции, о которой говорил Д. Рисмен, было рождение в США движения битников, оказавшего огромное влияние на общество и ставшего предшественником субкультуры хиппи.
Явления массовизации получили легитимизацию через потрясения Второй мировой войны. Произошел остракизм классической культуры, она будто поменялась местами с массовой, приобретя ситуативную, символическую ценность, уступив массовой функцию распространения обладающих реальной значимостью образцов. Появляется новая теоретическая модель массовой культуры, образно выраженная в заголовке статьи американского литературного критика Л. Фидлера «Пересекайте рвы, засыпайте границы» (1969 г.) и заключающаяся в стирании границ между элитарной и массовой культурами. Л. Фидлер отмечал, что постмодернизм и массовая культура обладают сходными фундаментальными чертами. Многообразная пестрота, лояльность к простоте и ребячеству, признание важности повседневности для человека перестали быть «мусором культуры» [21, с. 104]. Происходят изменения в социально-экономическом устройстве того времени: резкое увеличение доли сектора услуг в экономике, бурный рост наукоемких технологий, закрепление центральной роли науки и СМИ в системе средств общественной трансформации и рейтинге значимости различных видов ресурсов.
Человек информационной эпохи – критически мыслящий профессионал, способный почти независимо извлекать прибыль из своего человеческого капитала, он обладает личной свободой и делает неотъемлемым элементом своей сознательной деятельности стремление к самоопределению и самореализации [8, с. 142]. Таким образом, процесс эмансипации человека массы завершается одновременно с «десакрализацией» классической культуры, что неминуемо приводит к становлению плюралистической модели социального устройства, потерей элитными слоями общества привилегии на творчество и создание культурных образцов и, как следствие, рождением множества субкультурных и контркультурных проявлений. Культурная демократизация сформировала общественную установку на критичное отношение к «официальной» или «корпоративной» массовой культуре, дав людям возможность свободного выбора, отделения от социальных институтов и замены навязываемых атрибутов социализации на субкультурные или возможность совершенно «атомарного», персонализированного существования. Сущность данных направлений определила их весьма ограниченную идейную основу – выражение неприятия «официальной» массовой культуры и воспевание ухода в свободу, творчество, гедонизм. Ничего нового, более долгоживущего и конструктивного со времен А. Рокантена и битников, массовая культура не создала.
Наследие данного этапа в развитии и изучении массовой культуры остается действительным в настоящее время. Описанные преобразования стали тупиковой точкой в эволюции очень динамичной и адаптивной массовой культуры в силу того, что она исчерпала свой потенциал, дав людям все, что могла, исходя из располагаемых – благодаря своим сущностно-эстетическим характеристикам – средств.
Прошла почти четверть XXI века, показавшая, что тенденции к каким-либо изменениям нет; происходит лишь последовательное углубление состояния общественной атомизации, а индивидуализация достигает таких крайних форм, что даже корпоративно-потребительская культура уже ощущается на интуитивном уровне как более конструктивная, поскольку пропагандирует выгодные для себя семейственность, деторождение, работу ради благополучия наследников и т. п. В 1991 году появляется понятие «дауншифтинг» (англ. downshifting – переключение на более низкую «передачу», на понижение), которое означает размеренный умиротворенный образ жизни индивида, отказавшегося от ряда потребностей и социальных ролей и, соответственно, не нуждающегося в зарабатывании денег на их осуществление [2]. В результате сегодня вместо сообщества свободных, деятельных людей мы видим опустошенных инфантильных одиночек, так и не приобретших базовых знаний о конструкции мира, потерявших элементарные жизненные ориентиры. В модных изданиях эти субъекты всерьез рассказывают о том, что они отказались от рождения детей из-за непереносимости запаха молока и каши [16] или бросили карьеру, поскольку иначе «жизнь так и пройдет мимо» и не удастся «посходить с ума» [3]. Дополним эти социологические исследования собственным опытом: в абсолютном большинстве случаев высказывания о желании продолжать свой род и работать ради достижения детьми и внуками все больших высот, об обеспокоенности бедностью, социальными катаклизмами, экологическими проблемами в мире воспринимаются как чудачество и наивность. Ответ сводится к единственному тезису о том, что мы не властны над жизненными обстоятельствами, которые все равно помешают созидательной деятельности.
В дальнейшем, будто ожидая от культуры некоего стихийного самостоятельного прихода к состоянию, способному разрешать экзистенциальные дилеммы, неизбежно возникающие в человеческом сообществе, и «откладывая» эту тему в сторону, западные культурологи продолжают анализировать влияние на общество новых феноменов и искать новые подходы к апологетике масскульта. Так М. Кастельс уделяет особое внимание анализу влияния интернета и мобильных информационно-коммуникационных устройств, указывая на то, что они способствуют интеграции человеческого сообщества, при этом разрушая целостную картину мира на уровне самой личности. Социологи, философы, США Ч. Мукерджи и М. Шадсон полагают, что элитарными те или иные виды культуры становятся в силу того, что представителей более высоких сословий учили с детства воспринимать только их, создавая «легитимные» области культуры для соответствующей социальной страты, следовательно, проблема массовой культуры не эстетическая, а социологическая, а преодолеть ее поможет интертекстуальный подход к созданию и интерпретации культурных форм [12]. Среди исследований западных ученых можно найти много подобных разработок, объединенных идеей гуманизма, формирования общности людей при сохранении индивидуального подхода к каждому и отказа от пренебрежительного отношения к любым социальным стратам и творческим исканиям любого уровня. Однако при этом создается ощущение стагнации и отсутствия предпосылок к появлению прикладных инновационных решений для выхода из кризиса постмодерна.
Отечественная гуманитарная наука прошла особый путь в силу разрыва культурной преемственности в советский период. Теоретики того времени (Г. К. Ашин, В. Л. Глазычев, А. В. Кукаркин, Г. С. Оганов и др.) оценивали массовую культуру весьма категорично – как инструмент, с помощью которого господствующий класс приводит сознание масс к полностью конформному, легко управляе- мому состоянию, намеренно растиражировав и придав ее образцам статус фактически одной из ключевых сфер жизни с целью охвата абсолютного большинства завуалированным воздействием [1]. Постсоветские российские ученые (А. Я. Флиер, И. М. Быховская, А. В. Костина, Е. Н. Шапинская, Н. Б. Мань-ковская, В. В. Зверева, Э. А. Орлова, В. М. Дианова и др.), получив возможность работать, не будучи скованными строгими идеологическими рамками, признают, что массовая культура имеет и определенное свойство резистентности к явлениям при малейшем их несовпадении с интересами масс, вовлекая их представителей в творческий процесс и формируя общественную установку на критичное отношение к «официальной»/«кор-поративной» массовой культуре и свободу выбора. Тем не менее во многих остальных аспектах российские культурологи подвергают критике своих западных коллег. Так доктор философских наук А. Я. Флиер полагает, что они занимаются изучением не результатов функционирования культуры, а герменевтической интерпретацией замыслов творцов, организовывающих культурные акции, и создают тем самым общественную норму на идентификацию культуры и искусства как инструмента, служащего преимущественно самоотождествлению личности [19, с. 6]. При этом сам А. Я. Флиер, а также большинство российских культурологов (А. В. Костина, Э. А. Орлова и др.), стоят на социокультурных методологических позициях, анализируя культуру как интегрированную систему, способную не только оказывать определяющее влияние на текущие общественные перемены, но и выполнять прогностическую функцию. Теоретик культуры А. В. Костина подчеркивает в своих работах, что российские культурологи оценивают массовую культуру как сферу общественной жизни, создающую современную мифологию, тесно взаимосвязанную с духовной деятельностью индивида и человеческих сообществ по определению идентичности и формированию механизмов регуляции жизнедеятельности, направленных на ее поддержание. Эти нормы со временем приобретают свойства архетипа и функционируют как «активатор» одобряемых социумом поведенческих реакций [6, с. 184]. Флиер считает, что культура не может, как живое существо, обладать способностью к целеполаганию и субстанционально направлена на обеспечение социальных функций [20, с. 91]. Это утверждение может служить стержневой предпосылкой для построения уникальной российской доктрины выхода из кризиса постмодернистского партикуляризма и построения культурной системы, предназначенной для достижения гармонизации общественных отношений и наполнения жизни личности универсальными созидательными основами. Усилия российских культурологов способствовали законодательному оформлению концепции возрождения и сохранения традиционных ценностей как необходимого условия для индивидуального и общественного развития [13, с. VI]. Впервые в истории Российское государство придало культуре статус национального приоритета [13, с. I], основываясь на понимании того, что в современной информационной действительности культура представляет собой конститутивный ресурс общественно-экономического развития.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Сегодня уже ясно, что массовая культура западной цивилизации испытывает кризис, следуя апологетике гедонизма и тенденции усредненного восприятия, перспективе нарастания “атомарности” в существовании индивидуума, что в результате может привести человека к потере социальных и общественных связей, к дезориентации в реальности. В то время как массовая культура российской цивилизации опирается на сложившиеся традиционно культурные и общественные ценности и предлагает человеку массовый продукт, отвечающий духовно-нравственным устремлениям общества. В данном случае человек как потребитель массовой культуры чувствует себя полноправным членом общества и гражданином в самом широком понимании своей общественной значимости.
L
Список литературы Историко-трансформационная сущность массовой культуры и пути её развития в современных цивилизационных парадигмах
- Глазычев В. Л. Проблема «массовой культуры» [Электронный ресурс]. URL: http://www.glazychev.ru/ publications/articles/1970_problema_mass_cult.htm
- Дауншифтинг. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/c/ daunshifting-984035
- Дауншифтинг: путь к себе или бегство от себя? // Интернет-издание «Страсти» [Электронный ресурс]. URL: https://wwwpassion.ru/career/psihologiya-uspeha/daunshifting-put-k-sebe-ili-begstvo-ot-sebya-62224.htm
- Кибардина Л. Н., Першин Ю. Ю. Человек политический в контексте типологии социальных характеров Д. Рисмена // Личность. Культура. Общество. 2008. Т. 10. № 3-4 (42-43). С. 388-394.
- Комков О. А. К вопросу об экзистенциальном статусе культуры в философии истории Карла Ясперса // Вестник Московского университета. Серия 19 (Лингвистика и межкультурная коммуникация). 2020. № 4. С. 118-125.
- Костина А. В. Национальная культура - этническая культура - массовая культура: «баланс интересов» в современном обществе. Москва: Либроком, 2009. 216 с.
- Красноярова О. В. Концепция коммуникации К. Ясперса и современная ситуация [Электронный ресурс]. URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main%3Ftex-tid%3D2799%26level1%3Dmain%26level2%3Darticles
- Курочкина И. Г. Информационное общество: концепция, развитие, трансформация // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2020. № 1 (67). С. 141-144.
- Леденева Е. В. Толкование культуры у Зигмунда Фрейда // Философия хозяйства. 2018. № 4. С. 170-186.
- Лицом к будущему. Все о послевоенном искусстве [Электронный ресурс]. URL: https://www.culture. ru/ s/litsom_k_budushchemu/
- Матвеев М. С., Моисеева М. Б., Дорофеев Д. Н. Анализ работы Г. Маркузе «Одномерный человек» // Проблемы науки. 2018. № 1 (25). С. 83-84.
- Мукерджи Ч., Шадсон М. Новый взгляд на поп-культуру (перевод А.Захарова) [Электронный ресурс]. URL: http://art.photo-element.ru/analysis/popular_culture/popular_culture.html
- Об утверждении Основ государственной культурной политики: указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 (с изм. и доп.). Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс]. URL: https://www.consuItant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/794f61e017718ffdc01e7af2 e023edc189680f5f/?ysclid=m1ruexm25j173646341
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. Москва: Весь мир, 2000. 704 с.
- Потько А. Л. Экзистенциализм в «Тошноте» Жана Поля Сартра // Россия и мир в исторической ретроспективе. Материалы XXIX международной научной конференции к 320-летию основания Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, 2023. С. 468-472.
- Ребенок не принесет мне радости - только проблемы. Чайлдфри о своем выборе. Интернет-издание «Сноб» [Электронный ресурс]. URL: https://snob.ru/entry/121209/
- Сартр Ж.-П. Тошнота = La Nausée. 2-е изд. Т. 1. Санкт-Петербург: Азбука, 2007. 320 с.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм [Электронный ресурс]. URL: https://coollib. com/b/298751/read
- Флиер А. Я. Науки о культуре после постмодернизма: постфутурология // Обсерватория культуры. 2012. № 2. С. 4-11.
- Флиер А. Я. Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии // Личность. Культура. Общество. 2013. Том XV. Вып. 1. № 77. С. 88-103.
- Челидзе Е. И. Массовая культура в эпоху постмодернизма // Армавирская государственная педагогическая академия (Гуманитарные и социальные науки). 2011. № 3. С. 101-109.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Москва: Мысль, 1993. 666 с.