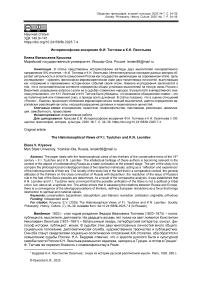Историософские воззрения Ф.И. Тютчева и К.Н. Леонтьева
Автор: Крысова Е.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены историософские взгляды двух мыслителей консервативного направления XIX столетия – Ф.И. Тютчева и К.Н. Леонтьева. Интеллектуальное наследие данных авторов обретает актуальность в аспекте осмысления России как государствацивилизации на современном этапе. Цель исследования – сравнить философскомировоззренческие идеи двух талантливых личностей, выступающих как «отражение и переживание» исторических событий своей эпохи. Новизна исследования заключается в том, что в сопоставительном контексте определены общие установки мыслителей на тесную связь России с Византией, разрешение вопроса о роли ее в судьбах славянских народов. В результате компаративного анализа установлено, что К.Н. Леонтьев и Ф.И. Тютчев были убеждены, что возможное объединение славян – это не политический или племенной союз, а прежде всего духовный. В статье показано, что в оценке отношений «Россия – Европа» происходит сближение мировоззренческих позиций мыслителей, дается определение европейских революций как силы, несущей разрушение духовных и национальных ценностей.
Консерватизм, византизм, славянофильство, панславизм, революция, цивилизация, самобытность, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/149148782
IDR: 149148782 | УДК: 140.8+141 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.4
Текст научной статьи Историософские воззрения Ф.И. Тютчева и К.Н. Леонтьева
Введение . 1803 г. стал годом рождения Федора Ивановича Тютчева (1803–1873) – поэта, публициста, мыслителя, дипломата. На двадцать восемь лет позже на свет появится Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) – батальонный лекарь, петербургский литератор, консул, философ истории, публицист, монах. В судьбах этих двух многогранных личностей много общего: социальное положение, дипломатическая служба, художественное творчество и публицистика. Они оба станут свидетелями социально-политических потрясений XIX столетия, оба обратятся к осмыслению судьбы России. Н.А. Бердяев отмечал, что о красоте русского быта и культурной самобытности России К.Н. Леонтьев размышлял издалека, находясь в Турции, а потом в Греции1. Ф. Тютчев же пережил близость к славянофильству в Риме.
Творчество каждой из данных персоналий в отдельном порядке рассмотрено подробно в трудах отечественных ученых филологов, философов, историков. В нашем исследовании точкой отсчета для анализа выбран «дипломатический период» биографий Ф.И. Тютчева и К.Н. Леонтьева. Рассмотрим, какое влияние он оказал на формирование социально-философских взглядов обоих мыслителей.
Дипломатический период деятельности Ф.И. Тютчева и К.Н. Леонтьева . Сразу после окончания Московского университета, в 1822 г., Ф.И. Тютчев получил назначение в дипломатическую миссию в столицу Баварии в должности «внештатного атташе». К.Н. Леонтьев перед поступлением на службу в Министерство иностранных дел прошел путь батальонного лекаря на Крымской войне, домашнего врача в Арзамасском уезде.
Мюнхен открыл Ф.И. Тютчеву мир немецкой поэзии и философии, подарил палитру впечатлений о жизни в Германии. Постепенно его служба становилась содержательной: увеличилось количество поручений и ответственных задач. В 1837 г. он был назначен старшим секретарем российской миссии в итальянском Турине. Однако в этот период его больше заботили личные вопросы – заключение брака и венчание с Эрнестиной Дернберг. Для государственной службы этот период оказался неуспешным. После 1846 г. в дипломатию Ф. Тютчев больше не вернулся. С 1848 г. он стал старшим цензором, а в 1858 г. был назначен председателем Комитета цензуры иностранной при Министерстве иностранных дел (Ранчин, 2014: 91). На дипломатической службе поэт проявил себя противоречиво. С одной стороны, демонстрировал пренебрежение режимом службы, избегал рутины ежедневных обязанностей, с другой – имел хорошее образование и обладал интеллектуальностью. Сам Ф. Тютчев признавался, что «не умел» служить, характеризуя тем самым нерадивое отношение к своим дипломатическим обязанностям. Высокого положения на этом поприще он не достиг1.
Дипломатическая служба К.Н. Леонтьева выпала на срединный рубеж его жизни. Этот этап характеризовался становлением консервативных взглядов мыслителя. Поначалу он раскрывается как писатель, а с 1870-х гг. – как публицист. В это время из-под его пера выходит очерк «Византизм и славянство»2. Философ Н.А. Бердяев назвал консульский период К. Леонтьева на Ближнем Востоке «периодом высшего цветения его жизни в миру»3. Мыслитель бежал от буржуазного Запада и обратился к экзотике Востока. Н.А. Бердяев объясняет мотивы такого бегства тем, что собственный быт для человека часто выступает «мучительной прозой», а быт других народов воспринимается как поэзия, в нем отсутствует гнетущая обыденность4. География дипломатической службы (Крит, Адрианополь, Тульча, Янина, Салоники) непроизвольно задала вектор философско-мировоззренческих интенций К.Н. Леонтьева. Восток, южные славяне, греки одновременно становятся объектами и результатом его историософских изысканий (Фетисенко, 2021: 146). Восток повлиял на духовное становление его личности, обострил его философскую и религиозную мысль, пробудил интерес к художественному повествованию5.
В результате государственной службы оба дипломата стали активными участниками интеллектуальной жизни своей эпохи. Переходные 40-е гг. XIX в. от дипломатической к дальнейшей службе открывают у Ф.И. Тютчева талант политического публициста. В этот период выходят в свет: проект привлечения европейских авторов к популяризации российских интересов в германской прессе, ответное письмо на очерк «Русская армия на Кавказе»6, политическое письмо «Россия и Германия»7. В этих текстах возникает образ России как силы, наделенной способностью противостоять духу революции, овладевшим Европой.
Восток и турецкая земля стали той средой, в которой взросли философские и политические идеи К.Н. Леонтьева. Они не являлись результатом его наблюдений со стороны, но многое обогатило мыслителя через опыт тесного межличностного общения с турецкими пашами, с коренным населением Балкан. К европейским коллегам он относился свысока, а в последние годы своей дипломатической службы и вовсе избегал встречи с ними, обретя славу «затворника» (Фетисенко, 2021: 147). Это во многом отличало его от Ф.И. Тютчева, активно взаимодействовавшего с зарубежными коллегами.
Миссия России в воззрениях Ф.И. Тютчева и К.Н. Леонтьева. Рассмотрим, какой определяли миссию России оба мыслителя, какую оценку они давали Западу, Востоку и России. В своих историософских взглядах Ф.И. Тютчев трактовал нравственную природу России через самоотречение, самопожертвование, задушевность как ключевые черты ее народа. Он говорил о соединении всех славян (особенно исповедовавших православие) под покровительством России, рассматривая ее как преемницу Византии, склонялся к панславизму (Ранчин, 2014: 93). Его взгляды были очень близки к славянофильским, а сами представители этого философского течения называли его «философом в поэзии». Однако Ф. Тютчев не разделял их идеи о негативных последствиях петровских реформ и оставался убежденным государственником (Ранчин, 2014: 94).
С начала 1820-х гг. Ф. Тютчев объединяет восточную и славянскую проблематику в своем творчестве и укрепляется в славянофильских взглядах. В художественных образах произведений «Как дочь родную на закланье…»1 (1831) и «Олегов щит»2 (1829) поэт представляет миссию, предназначенную русскому народу:
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать3.
Эти строки – отрывок из отклика Ф. Тютчева на подавление польского восстания. А «Олегов щит» поэт выбирает в качестве символа той предопределённой цели, к которой стремится русский народ4.
В свою очередь К.Н. Леонтьев предстал перед современниками «разочарованным славянофилом», который не верил в прогресс, а верил в человечество5. На первый план для него вышел восточный вопрос. Он занял позицию, противоположную славянофильской, выражая симпатию грекам и туркам. Ему был чужд демократизм балканских славян и торжество либерально эгалитарных начал. Любовь к грекам основывалась на их заслуге сохранения византийского православия, института монашества, укрепления церковных начал, воспрепятствовавших демократическому прогрессу. Отношение к туркам носило эстетический характер. К.Н. Леонтьеву был мил их неевропейский красочный быт. Особо подчеркивал он важность того, что власть турок мешала балканским народам окончательно встать на путь европейского демократического развития. Такая власть, по мнению мыслителя, была необходима и для сохранения древнего православия на Востоке. Он не видел верности византийским началам у славян6.
К.Н. Леонтьев не принимал идею о всеславянском союзе и с осторожностью относился к панславизму. У Ф.И. Тютчева же панславизм был особенным. В Праге в 1841 г. произошла встреча поэта с В. Ганкой, представителем чешского национального возрождения. В этот визит он наблюдал рост национального самосознания западных славян. С этого момента славянская тема стала одной из центральных в лирике и публицистике поэта. Однако у Ф. Тютчева в славянофильских взглядах возобладал внешнеполитический контекст, а именно – славянская взаимность, панславизм и роль России в судьбах славянства (Лаптева, 2007: 314). В 1867 г. в России состоялся Славянский съезд, приуроченный к проведению Всероссийской этнографической выставки, на котором собрались представители славянских народов. К этому важному событию Ф. Тютчев написал поэтическое приветствие «Славянам»7. Исследователь Л.П. Лаптева указывает на интересный факт – славянофильские настроения Ф. Тютчева сложились вне России и без ее влияния. Он сформировался в обществе, где господствовала философия Гегеля (Лаптева, 2007: 315).
Ф.И. Тютчев предчувствовал распад Австрии под воздействием антихристианских и революционных начал. Для славян Европы мыслитель видел союз с Россией, которая сохранит их национальные традиции в противовес Западу, который поглотит эти народы. Он полагал, что славяне должны стать «Греко-славянским миром», душой которого будет Россия. Однако этим идеям не суждено было воплотиться в жизнь. После Крымской войны умонастроения поэта сменились неутешительным пониманием того, что национальные интересы России и зарубежных славян расходятся (они не хотят отказываться от своей культурной и политической независимости) (Линькова, 2010: 93).
Предшественник Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, евразийцев, один из первых панславистов – поэт Ф.И. Тютчев писал о том, что для Запада образ России тождественен «стихии, если не враждебной, то вполне чуждой и неподвластной»1 (Карцов, 2006: 123). Центральной для него стала мысль о том, что Россия – это часть Европы, сохранившая достойнейшее из европейских цивилизаций, то, что утрачивал Запад. Обратим внимание, что в своей рефлексии мыслитель противопоставляет Европу индивидуалистическому, находящемуся в состоянии духовного и социального хаоса Западу. Поэтому Российская империя – это ориентир и объединитель для народов Европы, наименее испорченных Западом (Карцов, 2006: 123).
Переломным моментом для Ф. Тютчева становится осмысление последствий Крымской войны. В год четырехсотлетия падения Византийской империи началась Крымская война. В этом конфликте он увидел нечто большее, чем столкновение Турции и России. По мнению поэта, Россия осталась опять одна перед лицом враждебной Европы2. Севастопольская катастрофа и Парижский мир 1856 г. нанесли удар по политической концепции Ф.И. Тютчева. Он оставляет мысль об объединении зарубежных славян и России и обращается к культурно-конфессиональным связям славянского мира. Русский язык, по его мнению, должен популяризироваться как средство межславянского общения. В этот период он меняет форму творчества: от трактатов переходит к стихотворениям (Карцов, 2006: 126). В идеях поэта становится все меньше панславистской окраски, более реалистичной он видит задачу духовного объединения славян, чем политического3.
Его младший современник, К.Н. Леонтьев, не спешил объединять две истории: отечественную и западных славян. Он с очевидностью вопрошал – какая же нам выгода? Ведь в их истории истинно славянского гораздо меньше, чем либерального и конституционного. Он по-прежнему настаивал на том, что с южными славянами у нас связь прочнее, она не племенная, а вероисповедная (Леонтьев, 2010: 595).
Философско-мировоззренческие взгляды Ф.И. Тютчева выстраивались вокруг проблемы самобытности России, осмысления духовно-исторического наследия, волнения за судьбу России и ее пути. В его строках концепция «Москва – Третий Рим» обрела новое значение российской государственности и ее отношений с Европой («Россия – Запад») (Линькова, 2010: 87). Самобытность России дипломат видел в продолжении византийской традиции. Однако на примере падения второго Рима Ф. Тютчев понимал последствия такого исторического опыта. Спасение России он предполагал в сохранении православных ценностей и духовно-нравственных основ национальной традиции. Ф.И. Тютчев не просто пережил, но и глубоко осмыслил спектр геополитических событий XIX в. В результате у него сформировался идеал России – православной страны, обретающей опору в сильном самодержавии, национальных традициях и православных ценностях (Линькова, 2010: 90).
Напротив, К.Н. Леонтьев не настаивал на полной самобытности русской культуры, для него она переняла основные принципы византийского развития. В отличие от славянофилов и Н.Я. Данилевского, мыслитель не принимал племенной, национальный принцип характеристики этносов. По его мнению, существует высшая идея, образующая национальность, и это – византизм. Но славяне на Востоке не являются «рыцарями» этой идеи, они открыты для либерально-демократических идей. В строках К.Н. Леонтьева неоднократно встречаем предчувствие конца мира, которое связано с либерально эгалитарным прогрессом (в демократии, социализме, анархизме – действует антихристов дух)4.
«Для существования славян необходима мощь России. Для силы России необходим византизм», – отмечал дипломат К.Н. Леонтьев (Леонтьев, 2010: 83). «Что сделал византизм для России? Создал наше величие, слившись с нашими патриархальными началами, простыми началами, старым славянским материалом» (Леонтьев, 2010: 64). «Византизм – обширное поместительное здание. Византизм в государстве – самодержавие. В религии – христианство. В нравственном мире – разочарование в земном и устойчивость собственной чистоты» (Леонтьев, 2010: 35).
Заключение. Проследив влияние дипломатической службы на формирование общественно-политических и философских идей, можно заключить, что Ф.И. Тютчев осознавал Россию и Запад как отдельные организмы. Несмотря на то, что И.С. Аксаков назвал его «русским выходцем из Европы, ставшим славянофилом на дипломатической службе»5, для поэта и публициста Россия – часть той Европы, в которой нет проявлений индивидуализма и хаоса Запада. Россия для него – это оплот порядка. Поэт выводит формулу: православие и церковь – душа, а славянское племя – тело империи. Россия для него – страна православная и только потом – славянская1. Она сохраняет свою самобытность, но при этом вписывается в европейскую систему координат (Карцов, 2006: 127). Россия – Европа, но Восточная, а это особая цивилизация.
Контуры философских построений Ф.И. Тютчева об отношениях России и Европы раскрываются в следующих положениях. Во-первых, это стойкость нашей страны перед лицом революции – силой, разрушающей христианские начала, национальные ценности и особенности. Поэт считал причиной роста революционных настроений слабость Западной Церкви. Во-вторых, миссия России – нести в мир историческую законность и торжество права, в отличие от Европы, сеющей революцию. Россия сохраняет высшую божественную легитимность верховной власти в самодержавии (Линькова, 2010: 95). В-третьих, решение славянского вопроса на базе византизма как почвы для собирания славянских и православных народов.
К.Н. Леонтьев вошел в «долгий XIX век», став очевидцем многих политических и социальных потрясений в Европе и России. Он воспринимал революции и восстания как предвестников духовного упадка. Во многом поэтому его «охранительные» взгляды отворачивались от европейского пути для России и оформились в конце концов в понятии византизма (Донских, 2011: 98).
К.Н. Леонтьев встал в один ряд с Ф.М. Достоевским и В.С. Соловьевым – личностями, глубоко воспринявшими христианство, дух истины и любви. Он оценил идею Ф.И. Тютчева об «империи Востока», подверг критике славянофильский подход собирания империи, заложил основы для деятельности поколений евразийцев (Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского и др.).
Византизм, согласно К.Н. Леонтьеву, выступает главным средством для охранения России и славянства. Философ разделял славянофильское признание консервативных устоев России, однако понимал их иначе (вкладывая византийский характер в эти начала). Ему была чужда обновленная Европа с ее эгалитарным прогрессом, анархическими тенденциями, милитаризмом и техникой – всем тем, что нивелировало охранительные, традиционные начала жизни социума. По мнению С.Н. Трубецкого, заслуга К.Н. Леонтьева в том, что он первым предпринял попытку противопоставить византизм как культурное начало России западной культуре. Россия для философа – «отраженный свет» Византии2.
Ф.И. Тютчев и К.Н. Леонтьев всю жизнь оставались крайними государственниками. Мыслителей сближала оценка пагубного влияния кризиса европейской цивилизации. Последние годы своей жизни Ф.И. Тютчев не оставлял работы, не уходил со службы, несмотря на серьезное ухудшение здоровья и пережитые волнения в связи с утратой близких людей. Он следил за франкопрусской войной, писал стихи. Поэзия и политика оставались его стихиями до последних дней. В 1873 г. поэт умер в Царском селе. К.Н. Леонтьев на закате своих дней сдержал обет, данный им после исцеления в Салониках. В 1891 г. он принял монашеский постриг под именем Климент. В конце того же года скончался от пневмонии и был похоронен близ Сергиева Посада.