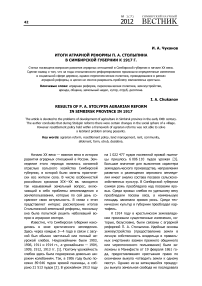Итоги аграрной реформы П. А. Столыпина в Симбирской губернии к 1917 г
Автор: Чуканов Иван Альбертович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам развития аграрных отношений в Симбирской губернии в начале XX века. Сделан вывод о том, что за годы столыпинского реформирования произошли определенные изменения в социальной сфере деревни, однако переселенческая политика, проводившаяся в рамках аграрной реформы, в целом не смогла разрешить проблему малоземелья крестьян.
Аграрная реформа, переселенческая политика, землеустройство, аренда, община, земельный надел, хутор, отруб, десятина
Короткий адрес: https://sciup.org/14113622
IDR: 14113622
Текст научной статьи Итоги аграрной реформы П. А. Столыпина в Симбирской губернии к 1917 г
Начало ХХ века — важная веха в истории развития аграрных отношений в России. Земледелие этого периода являлось основной отраслью сельского хозяйства Симбирской губернии, в которой были заняты практически все жители села. В числе особенностей российских кризисов ХIХ—XX вв. находится так называемый земельный вопрос, включающий в себя проблемы землевладения и землепользования, которые по сей день сохраняют свою актуальность. В связи с этим представляет интерес рассмотрение итогов Столыпинской земельной реформы, поскольку она была попыткой решить наболевший вопрос в аграрном секторе.
Известно, что Симбирская губерния находилась в зоне критического земледелия. Здесь через каждые 3—4 года в связи с засухой был обычно частичный или полный неурожай хлебов. Неурожайными были 1903, 1906, 1911 и 1914 гг., а урожайными — 1904, 1909, 1912, 1913 гг. [1]. Поэтому урожайность хлебов здесь была подвержена довольно широким колебаниям. Так, в 1906 году было посеяно 89 646 пудов яровой пшеницы, a собрано 21 513 пудов [2]. В урожайном 1913 году на 1 022 477 пудов посеянной яровой пшеницы пришлось 6 006 110 пудов урожая [3]. Большое значение для выяснения характера земледельческого производства, направления развития и размещения зернового земледелия имеет анализ состава посевов сельскохозяйственных культур. В Симбирской губернии озимая рожь преобладала над посевами яровых. Среди яровых хлебов по удельному весу преобладали посевы овса, а наименьшую площадь занимала яровая рожь. Среди технических культур в губернии преобладал картофель.
К 1914 году в крестьянском землевладении произошли существенные изменения, которые, безусловно, были связаны с аграрной реформой П. А. Столыпина. Идейные основы землеустройства (предоставление земли в личную собственность владельца в правильных очертаниях взамен прежнего общинного или чересполосного пользования) были заложены в Манифесте от 19 февраля 1861 года, предоставлявшем крестьянам право по окончании выкупа «отводить земли к одному месту». Однако из-за затянувшейся процедуры выкупа земельная свобода не последовала за личной свободой. 30 марта 1905 года было образовано особое совещание о мерах по укреплению крестьянского землевладения. В это же время правительство учредило комитет по земельным делам и преобразовало Министерство земледелия и государственных имуществ в Главное управление землеустройства и землевладения.
Следует также отметить указ от 3 ноября 1905 года, уменьшивший в два раза с 1 января 1906 года выкупные платежи. Окончательно они были отменены с 1 января 1907 года, что позволило крестьянам использовать эти средства на другие нужды хозяйства [4]. Высочайшим указом от 4 марта 1906 года были учреждены землеустроительные комиссии преимущественно для содействия Крестьянскому банку. Указом от 9 ноября 1906 года деятельность комиссий расширялась возложением на них обязанностей землеустройства крестьян на надельных землях [5]. Этот указ предусматривал выход крестьян из общины и укрепление земельных наделов в личную собственность в тех обществах, в которых не было общинных переделов в течение 24 лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от общинного владения к личному.
В общинах, где были переделы, выделившийся крестьянин также мог укрепить весь земельный надел, но за «лишнюю» землю, по сравнению с положенным ему количеством «по числу разверсточных единиц в его семье», он должен был платить общине. Плата производилась «по первоначальной средней выкупной цене за десятину», то есть была в два-три раза меньше, чем община фактически уже выплатила государству в порядке выкупной операции. Кроме того, выделившимся из общины крестьянам давалось право в любое время требовать, чтобы общество выделило взамен этих участков другой, по возможности, в одном месте. Таким образом, правительство пыталось ускорить разложение общины и стимулировать процесс возникновения и развития фермерских крестьянских хозяйств. Закон 14 июля 1910 года юридически закреплял политику правительства в отношении общины (фактически он упразднял общины, не производившие общих переделов в течение 25 лет). Огромное значение в нем придавалось созданию хуторских и отрубных хозяйств. Этот закон устанавливал новый по- рядок перехода целых селений и общин к отрубному владению: вопрос о выходе из общины и укрепление земельных наделов решался на сходе простым большинством голосов вместо большинства в 2/3 голосов, как было прежде.
Вершиной Столыпинского аграрного законодательства являлось «Положение о землеустройстве» от 25 мая 1911 года, которое расширяло права землеустроительных комиссий. Теперь, наряду с основным землеустроительным делом комиссий: размежеванием земель, отводом их к одним местам и образованием единоличных хозяйств (выделения отдельных домохозяев из общины), на них было возложено оказание крестьянам материальной помощи в выдаче ссуд и пособий на перенос и возведение построек, а также содействие переселению за Урал, в приобретении земли через Крестьянский банк, продаже и сдачи казенных земель. В обязанности комиссий входили также забота о производстве простейших мелиорационных работ, агрономическая помощь и содействие огнестойкому строительству в районах хуторского расселения. Кроме того, землеустроительные работы проводились в сложных одноплатных общинах, где необходимо было произвести раздел земли между селениями, частями селений, выдел земли выселкам для создания впоследствии на этих землях хуторских и отрубных хозяйств. Такое землеустройство было жизненно необходимо, так как оно сокращало дальноземелье и чересполосицу в одноплатных общинах.
Темпы землеустроительных работ на местах зависели от ряда факторов и прежде всего от уровня разложения общины, степени развития капитализма в земледелии, близости сел и деревень к рынкам, железным дорогам и водным путям, которые способствовали росту зернового производства. Наличие в Поволжье большого числа мукомольных предприятий создавало условия как для переработки зерна, так и для широкого товарного обмена внутри России, вывоза хлеба за границу.
С большими трудностями реализовывались идеи землеустройства в Симбирской губернии, которая до Высочайшего Указа от 9 ноября 1906 года знала исключительно общинный порядок землепользования. Вот почему требования о выходе из общины стали поступать сюда позднее, чем в другие губер- нии Среднего Поволжья, в которых подворное владение уже существовало. Такие требования стали поступать лишь с осени 1908 года, то есть уже после составления плана работы на этот год. К 1 июля 1908 года поступили ходатайства от 254 дворов, к 1 октября — от 658, к 1 января 1909 года — от 4302, а уже к 1 января 1913 года — от 50 332 дворов [6]. С 1 января 1913 года по 1 января 1914 года уездными землеустроительными комиссиями была закончена подготовка 250 дел. В комиссию по землеустройству было представлено 167 дел, из которых утверждено было 156. По ним в 1913 году были выданы ссуды по оказанию денежной помощи:
-
1) на перенос построек и оборудование усадьбы — 27 890 руб. (214 домохозяевам);
-
2) на мелиорацию, устройство мостов, изгородей и другие расходы, связанные с изменением землепользования, — 14 827 руб. (175 домохозяевам);
-
3) на развитие в районах землеустройства огнестойкого строительства — 32 100 руб. (186 домохозяевам).
Таким образом, 575 домохозяев получили денег на сумму 74 819 руб. Всего же в 1913 году поступило 375 ходатайств по землеустройству (от 22 310 домохозяев, 62 отдельных домохозяев) [7]. По размерам земельного фонда, приобретенного Крестьянским поземельным банком, Симбирская губерния в 1910 году считалась четвертой в России, а по площади банка, переданных для ликвидации в землеустроительные комиссии, третьей из 46 губерний [8].
Однако активность членов землеустроительных комиссий Симбирской губернии не могла быстро преодолеть инертность крестьянского общинного сознания. Симбирские крестьяне не особенно стремились выходить из общины и создавать свои частные хозяйства, предпочитая не рисковать и жить «по старинке».
Симбирская губерния занимала предпоследнее место в Поволжье (после Казанской губернии) по количеству дворов, вышедших из общин. С 1906 по 1915 гг. в губернии из общины вышло 57 795 дворов, что составило 12,9 % от общего количества хозяйств. В их распоряжении находилось 294 693 десятины, или 18 %. Кроме того, общинники с неприязнью относились к «единоличникам», волей-неволей противопоставлявших себя общине, иногда к обычной неприязни примешивалась и зависть, поскольку по указу от 9 ноября 1906 года, а затем по закону от 14 июня 1910 года все вышедшие из общины могли свести свои полосы в один участок на лучшем поле [9, с. 579]. В представлении общинников хуторяне и отрубники, даже имевшие участок от 1 до 5 десятин земли, ассоциировались с помещиками («новые помещики»). Поэтому многие сходы отказывались утверждать приговоры об укреплении земли. Противодействие крестьян было основано на том, что они объективно стремились к ликвидации частной собственности на землю, а субъективно их стремления сводились к уравнительному землепользованию.
Землеустроительным комиссиям не удавалось создать большого количества хуторов и отрубов на надельных, банковских и казенных землях. Так, в Симбирской губернии на надельных землях было образовано с 1907 по 1914 гг. 21 389 хуторов и отрубов, что составило 45,1 % от общего числа землеустроенных хозяйств. Однако для губернии, где до 1906 года безраздельно господствовала община, это было значительным достижением. По всей территории Симбирской губернии со дня издания указа 9 ноября 1906 года по 1 января 1917 года укрепили землю в личную собственность 23,9 % всех хозяйств. Площадь надельной земли, укрепленной в личную собственность, ко всей площади общинной надельной земли составила в Симбирской губернии 18,0 %, а в целом по Европейской России — 14 % [9, с. 502].
Архивные материалы подтверждают данные С. М. Дубровского. По сведениям Симбирской губернской земской управы, к 15 августа 1909 года по губернии было создано более 500 хозяйств в единоличном владении [10]. На 1 января 1916 г. в Симбирской губернии насчитывалось 31 326 хуторов и отрубов площадью в 335 180 десятин, что составляло 11 % от общего числа крестьянских дворов и 8 % всей удобной земли. Уже к 1 января 1917 года в губернии было создано 35 342 единоличных крестьянских хозяйства [11]. Среднероссийский показатель количества хуторских и отрубных хозяйств был немного меньше губернского — 10,6 %.
На заседании Крестьянского съезда Сен-гилеевского уезда, проходившего 14—15 мая 1917 года в селе Тереньга, была принята ре- золюция, одно из положений которой гласило: «Если отрубники в состоянии обработать свою паровую землю сами, то им в работе не мешать. Если они сами обрабатывать свою землю не в состоянии, то должны отдать землю обществу, обязав общественников переложить в этот год на себя все те обязательства к банкам по уплате всех повинностей на десятину, какие находятся на отрубниках» [12, л. 13 об.].
Фактически крестьяне пытались вернуть землю из частной собственности в общинную и запретить отрубникам использовать наемную рабочую силу. Малоземельные и средние хозяйства видели в общине единственное спасение от разорения и нищеты. На хутора и отруба переходило, как правило, многоземельные крестьяне, имевшие, кроме надельной, купленную землю. Многочисленные жалобы отрубников свидетельствуют о том, что общинники пытались переделить земли, выкупленные отрубниками у Крестьянского поземельного банка [12, л. 7—28].
Расширение посевных площадей в Поволжье привело к сокращению лугов и пастбищ. Площадь лугов Симбирской губернии сократилась в 1914 году, по сравнению с 1900 годом, в 1,3 раза. Многие крестьяне губернии не имели ни лугов, ни выгонов или их было недостаточно: «С весны крестьяне пасли скот на парах, потому они ни весной, ни с осени пахали пар, а подымали его ненадолго до посева озими. До этого времени крестьяне оставляли свои пары зарастать всякими сорными травами, большей частью непригодными для корма скоту, который при пастьбе на парах голодает... крестьяне не признают иного способа кормления скота, как только пастьбу на парах» [3, с. 5].
Даже в урожайные годы уже в феврале-марте многие крестьянские хозяйства испытывали недостаток кормов, что вело к распродаже скота. Большинство крестьян, пытаясь восполнить недостаток сена и фуража, арендовали у помещиков и других землевладельцев выгоны, пастбища и сенокосы. Причем острая нужда в пастбищах и покосах позволяла сохраняться таким невыгодным для крестьян формам арендной платы, как отработки.
Сдача выгонов и сенокосов в аренду приносила землевладельцам высокие доходы. Насколько высока была цена аренды сенокосов, показывают следующие цифры: в Сим- бирской губернии к 1914 году цена аренды одной десятины поемного сенокоса составили 17,8 руб., а непоемного — 9,4 руб. [3, с. 30]. Цена пуда собранного сена составляла, соответственно, 15,4 коп. и 10,9 коп. [13, с. 31]. В губернии наблюдался постоянный рост арендных цен на земельные угодья. Так, за 10 лет с 1903 по 1913 гг. рост арендных цен на поемные сенокосы составил 6,9 %, а на непоемные — 3,7 % [3, с. 39].
Столыпинская земельная реформа повлияла на развитие арендных отношений. С одной стороны, она способствовала концентрации земель в руках кулаков и сельской буржуазии, которые, скупая наделы малоземельных крестьян, организовывали хозяйства фермерского типа или сдавали ее в аренду. С другой стороны, значительная часть укрепленной в личную собственность земли из бывших помещичьих, казенных и удельных земель, перешедших к хуторянам и отрубникам, была изъята из арендного фонда, что способствовало ухудшению землепользования большинства общинников.
Симбирская губерния принадлежала к густонаселенным земледельческим губерниям, и поэтому арендные отношения играли в ней большую роль. По данным подворной переписи 1910—1911 гг., площадь арендуемых вненадельных пахотных земель в это время достигала 300 000 десятин. Кроме пашни из вненадельных земель, крестьяне арендовали еще 34 500 десятин посевов и 90 000 десятин выгонов и пастбищ. В аренде пашни и покосов принимало участие около половины (49,6 %) крестьянских хозяйств [14]. Эти данные говорят о довольно большом земельном дефиците, сложившемся к началу войны. Данные статистических ежегодников по Симбирской губернии позволяют сделать некоторые дополнительные выводы о соотношении между степенью необходимости в земле, формой и высотой арендной платы. Удобренная озимая пашня сдавалась почти по одной цене с «новью» и «залежью», а в некоторых случаях (удельные крестьянские и казенные земли) — по более высокой цене. В среднем по губернии арендная цена «нови» была выше на 1,1 руб. за десятину. Неудобренная озимая пашня расценивалась ниже удобренной — по 5 руб. с десятины, яровая — ниже неудобренной озимой на 1,9 руб. Наивысшая арендная цена относится к казенным землям.
Этот факт объясняется следующими причинами:
-
1) все случаи сдачи казенной пашни относились к малоземельному хозяйству, отличающемуся высокими арендными ценами;
-
2) большую роль при сдаче в аренду казенных земель играли посредники, спекулирующие на повышении цен [3, с. 33—34].
Господствующей формой аренды во всех категориях землевладения, кроме удела, являлась крепостная, одногодичная аренда пашни. В частновладельческой и крестьянской аренде к этому виду относятся более 90 % всех арендных сделок (92,4—94,4 %), причем число случаев долгосрочной аренды (6 лет и более) падало до 1,7—0,9 %. Срочная аренда была характерна лишь для 1/3 случаев (33,3 %).
По высоте арендных цен того времени все уезды Симбирской губернии можно разделить на 2 группы, в одну из которых входили уезды, где цены были равны или выше средних по губернии — это северо-западные уезды (Курмышский, Ардатовский, Алатыр-ский и Буинский). В другую группу с ценами ниже среднего губернского уровня входили остальные четыре юго-восточных уезда (Симбирский, Карсунский, Сенгилеевский и Сызранский). Разница между арендными ценами юго-восточных и северо-западных районов была наименьшей в 1911 году — 71,3 руб. за десятину и наивысшей в 1913 году — 1,8 руб. В 1914 году разница в ценах по районам равнялась средней разнице за 5 лет и составляла 1,5 руб.
Повышение арендных цен на пашню за пятилетие, с 1910 по 1914 гг., достигло 13,2 %, а годовое повышение равнялось 3,3 %. Если с 1900 по 1910 гг. арендные цены возросли на 37,4 %, увеличиваясь ежегодно на 3,74 %, то в 1913 году арендные цены повысились, по сравнению с 1910 годом, на 8,8 % [15].
Рост числа посевных площадей как в губернии, так и в регионе в целом, фиксировал динамику прироста посевов. По сравнению с 1897 годом посевные площади возросли к 1914 году в Симбирской губернии на 9,4 %. Рост посевных площадей шел за счет запашки залежей, лугов и пастбищ, а также проведения мелиоративных работ, расчистки леса и т. д. По данным В. Г. Тюкавкина, с 1901 по 1913 гг. посевные площади в России выросли лишь на 4 % [16].
Следует также отметить неэффективность переселенческой политики правительства, хотя она и способствовала снятию определенной социальной напряженности в деревне. Планы правительства на поддержку переселенческой политики кредитными кооперативами потерпели неудачу. Местные кредитные учреждения отказывались принимать в свой состав переселенцев из южных российских губерний, которые по дороге в Сибирь оседали в Среднем Поволжье (в частности, на территории Симбирской губернии), купив в рассрочку у Крестьянского поземельного банка земли в виде отрубных и хуторских участков. В качестве одной из основных причин отказа в приеме переселенцев-хуторян указывалось отсутствие доверия к ним со стороны местного населения, возможность их отъезда в любое время на новое поселение и т. д. [17, л. 3—3 об.].
Реальная же причина острого непринятия переселенцев заключалась в остром крестьянском малоземелье. Не имея средств на покупку земли у Крестьянского поземельного банка, крестьяне винили переселенцев во всех бедах, считая, что они незаконно занимают их исконные земли. Подобная ситуация сохранялась до переустановки землеустроительных работ в связи с военным временем. Так, в июле 1916 года инспектор мелкого кредита Сызранского отделения Государственного банка Симбирской губернии С. Н. Анненков отмечал в записке к годовому отчету за 1915 год по состоянию кредитной кооперации в своем районе изолированное положение переселенцев-хуторян. Инспектор видел причины данного явления в том, что «…нужда в доступном кредите у этих пришельцев была во всяком случае не меньшая, чем у жителей коренного местного населения, а между тем переселенцы достать этого кредита не могли, так как соседние товарищества в число членов их не принимали из-за неприязни местного населения к переселенцам, заселившим земли, издавна обрабатывавшиеся местным населением» [18].
Сближению препятствовала также большая разница в методах ведения хозяйства, которые разительно отличались от местных, веками складывавшихся традиций. Так, в симбирской печати отмечалось, что, в отличие от местных крестьян, эстонские переселенцы, селившиеся на хутора в губернии, при покупке земель мало интересовались ее качеством и близостью к рекам и водоемам, а уделяли большее внимание близости угодий к местным рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции, урожайности тех или иных культур в данном районе и так далее. Местное население особенно удивляло то, что эстонцы «сначала строят помещение для своего скота, а уж потом для себя, в отличие от местных крестьян, которые строят сначала для себя, а потом из остатков и всякого мусора помещение для животных, стройка последних часто затягивается» [19].
В результате переселенцы-хуторяне вынуждены были создавать собственные кредитные товарищества, например, Волчанское и Репьевское кредитные товарищества, открытые в июне 1913 года в Сызранском уезде Симбирской губернии [20].
По своей материальной обеспеченности выделялись члены кредитных товариществ, открытых переселенцами-хуторянами, купившими землю из имений Крестьянского поземельного банка, разбитую на большие участки. Такие товарищества были открыты в Симбирской губернии. Сохранились сведения о хозяйственной обеспеченности учредителей Репьевского кредитного товарищества «единоличных собственников», открытого в Сызранском уезде Симбирской губернии в 1913 году. В данном случае на каждое хозяйство приходилось в среднем 25 десятин собственной земли, 3 головы рабочего и молочного скота [17, л. 8 об.].
Данные цифры наглядно свидетельствуют, что дворянство теряло главный источник своего благосостояния – землю. Землевладельцам приходилось для более успешного выполнения посевных и других сельскохозяйственных работ привлекать все в большем объеме женский и детский труд. Женщины и дети начинали выполнять все те работы, которые раньше считались мужскими [21]. В Симбирской губернии, где положение было особенно тяжелым, землевладельцы вынуждены были прибегать к использованию труда женщин из других районов: «Некоторые землевладельцы Карсунского и Курмышского уездов для посевных работ привлекли и женский труд. Из Тульской и Калужской губерний выписана довольно значительная партия женщин. Они будут выполнять все полевые работы» [22].
Аграрная реформа внесла значительные изменения в социальный облик крестьянского мира России и Симбирской губернии в частности. П. А. Столыпин и его сторонники наряду с экономическим прогрессом были озабочены главным образом социальной стабильностью. Приостановление войной аграрной реформы наложило отпечаток на социальный облик российского крестьянства, которое к 1917 году в Симбирской губернии (так же, как и по всему Поволжью) оказалось к моменту революции глубоко дифференцированным.
Наиболее крепкие крестьянские хозяйства даже в годы войны чувствовали себя спокойно и уверенно. Эти хозяйства, поднявшиеся во время аграрных преобразований, продолжали развиваться по капиталистическому пути, применяя труд наемных работников, усовершенствованные орудия труда и улучшая агротехнику. Только крепкие хозяйства могли позволить себе приобретение усовершенствованного инвентаря. Зажиточные крестьяне имели в своих хозяйствах наиболее современные орудия труда: сеялки, веялки, молотилки, косилки и жнеялки. Однако доля таких хозяйств к 1917 году была невелика. Так, имели косилки лишь 0,07 % хозяйств, а железными боронами владели 0,3 % всех крестьянских хозяйств Симбирской губернии [23].
Нужно отметить и снижение числа крестьянских выступлений в Симбирской губернии, которое объясняется значительным снижением землеустроительных работ в период 1915—1917 гг.
Продолжается борьба крестьян-общинников с теми, кто, несмотря на сложную обстановку, решал укрепить землю в частную собственность. Полгода продолжалась такая борьба в селе Тарханове Ардатовского уезда. Крестьяне упорно противодействовали сначала пахотным работам, а затем не допускали скот выделившихся крестьян на выгон. За этот период крестьяне устраивали поджоги, оказывали сопротивление приставу со стражниками, когда тот прибыл для ареста организаторов движения против выделяющихся. В августе 1916 года на усмирение крестьян села Тарханова прибыл симбирский губернатор, по распоряжению которого были арестованы 20 крестьян и солдаток и посажены в уездную тюрьму на три месяца [24, с. 172—173]. О накале борьбы свидетельствует и тот факт, что в июле 1916 года крестьяне-отрубники выну- ждены были послать телеграмму министру внутренних дел А. Н. Хворостову и министру земледелия А. Н. Наумову о том, что их «…к владению лугами и выгонами общество не допускает» [25].
Крестьяне оказывали сопротивление не только работам, связанным с наделением землией отрубников и хуторян, но и другим землеустроительным работам, проводившимся во время войны. В июле 1916 года крестьяне мордовского села Таджева Ардатов-ского уезда оказали сопротивление развертыванию земель, принадлежащих Крестьянскому банку. Под воздействием угроз со стороны крестьян землемер вынужден был прекратить работы в селе. Исправник доносил губернатору, что «…означенное проявление есть дерзкая разнузданность, самоуправство, не могущее оставаться безнаказанным» [24, с. 175—176].
За годы Столыпинской аграрной реформы изменился характер частновладельческого земледелия. Так, в руках дворянства в Симбирской губернии в 1910—1911 гг. оставалось 12,2 % удобной земли, у купцов, мещан и разночинцев — 5,8 %, крестьян — 14,3 % [26, с. 28]. В Ардатовском уезде в частном владении крестьян находилось 8,1 %, а у крестьян, товариществ и обществ в личном владении — 22,4 %, в том числе в единоличном владении – 14,6 %, и у купцов, мещан и разночинцев — 2,5 %.
Столыпинская реформа оказала решающее влияние на состояние и размеры помещичьего землевладения. Если в 1913 году помещики Ардатовского уезда имели 31 850 десятин, или 8,2 % всей земельной площади уезда, то в 1915 году — 27 538 десятин, или 7,1 % от всей земельной площади уезда.
К. Воробьев считал, что норма в 5—10 десятин давала возможность довольствоваться своим хлебом. Если отнести 8 607 хозяйств (3,0 %) со средним размером обрабатываемой земли более 32 десятин к богатым, то число хозяйств, которые могли бы довольствоваться своим хлебом, составило 67,5 % от всех крестьянских хозяйств Симбирской губернии [26, с. 29].
А. С. Слуцкий считает, что «в пореформенной России зажиточная часть крестьянства получила ряд преимуществ от общинного землепользования. В их пользу распределялась купчая земля, мирская аренда, а в ре- зультате душевого общинного налогообложения происходило частичное переложение податей с богатых на бедных» [27]. Они могли пользоваться общинными выгонами, использовать выгоду «мены наделов», исключая свои полосы из переделов. Не выходили из общины и бедняки, которые были не способны благоустроится на новом месте и переустроить свое хозяйство на капиталистическую основу. К тому же при выходе из общины бедняк терял бы возможность сдавать в аренду часть своего надела.
Результаты Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года показывают, что частновладельческие хозяйства были лучше обеспечены сельскохозяйственными орудиями. Соотношение рабочего скота, в частности лошадей, в частновладельческих хозяйствах составляло 11,3 на одно хозяйство, а в общинных — 8,0 [28]. Кормовыми травами в крестьянских хозяйствах Симбирской губернии было занято 688,9 десятин земли, а в частновладельческих — 3959,4 десятин земли [28].
Наличие многолетних трав в структуре посевных площадей свидетельствует о более высокой культуре земледелия, развитии животноводства и, следовательно, лучшем обеспечении этих хозяйств удобрением.
Постоянный рост продуктивности земледелия на владельческих землях отмечался более рельефно. В 1901—1910 гг., по сравнению с 1861—1870 гг., урожайность хлебов по 50 губерниям Европейской России на крестьянских наделах увеличилась на 48 %, а владельческих — на 64 % [29].
В начале XX века при непосредственном участии земств и государства в Симбирской губернии была создана сеть опытных полей, накоплены опытные данные по агротехнике возделывания основных сельскохозяйственных культур. Это в значительной мере повлияло на распространение агрономических знаний и развитие новых технологий. Эффективность рекомендаций агронома и агрономическая помощь крестьянам в некоторых случаях была довольно значительной. Например, статисты отмечали, что «…рядовой посев у крестьян в Ардатовском уезде дал более высокий урожай пшеницы и овса по сравнению с разбросным» [3, с. 263].
Одной из самых насущных проблем крестьянского населения была проблема нехват- ки сельскохозяйственных орудий и машин. Для ее решения земскими учреждениями при поддержке Крестьянского поземельного банка были созданы сельскохозяйственные склады и прокатные станции.
Потребность крестьян, выделявшихся на хуторские и отрубные участки, в сельскохозяйственном инвентаре возрастала. Оборот земских сельскохозяйственных складов Симбирской губернии увеличивался. Например, оборот земского склада в г. Курмыше в 1910—1911 гг. составлял от 20 до 25 тыс. в год [30], а сельскохозяйственный склад в Алатыре увеличил свой годовой оборот с 33 475 руб. в 1909 году до 44 752 руб. в 1910 году [31]. Несмотря на выделение орудий через земские склады, распространение сельскохозяйственной техники замедлялось невежеством крестьянского населения. Так, в отчетах агрономов Курмышского уезда за 1911 год говорится о косности крестьянского населения в отношении новых приемов обработки земли и использования сельскохозяйственной техники. Чтобы преодолеть эту ситуацию, необходимо было посредством прокатных станций и сельскохозяйственных складов усилить внедрение сельскохозяйственных машин в крестьянскую среду [32]. В итоге к 1917 году в Симбирской губернии было 8 сельскохозяйственных складов с 15 отделениями [33, л. 6].
Важную роль в обеспечении необходимым инвентарем крестьянского населения губернии сыграли прокатные станции и зерноочистительные пункты, организованные при непосредственном участии земств губернии. К 1917 году в Симбирской губернии существовали 31 прокатная станция и 44 зерноочистительных пункта. В Сызранском уезде было 5 прокатных пунктов, в остальных уездах их было по 3—4. По количеству зерноочистительных пунктов лидировал Буинский уезд, где их насчитывалось 16 [33, л. 6 об.].
Успехи деятельности земских органов самоуправления Симбирской губернии в 1906— 1917 гг. способствовали повышению эффективности земледелия [34]. Благодаря активному сотрудничеству земских учреждений Симбирской губернии с государственными и частными банками увеличилось финансирование кооперативных учреждений, частных крестьянских хозяйств, что в целом повышало уровень экономического развития губернии. Пропагандируя новейшие приемы земледе- лия, земство усиливало конкурентоспособность крестьянских хозяйств в условиях складывания капиталистических отношений в земледелии.
В годы проведения Столыпинской аграрной реформы происходило увеличение земских ассигнований на развитие сельскохозяйственных школ низшего типа. Например, в 1915 году земством на Симбирскую сельскохозяйственную школу было ассигновано 4647 руб. 21 коп., на практическую школу садоводства — 5790 руб. 28 коп., на школу сельскохозяйственных монтеров — 6775 руб. 28 коп. В 1917 году было ассигновано уже 11 256 руб., 7553 руб. и 7390 руб. соответственно [35].
Возрастают расходы на содержание и оборудование опытной станций в губернии, которая способствовала выяснению наиболее выгодных приемов сельскохозяйственной техники в связи с вопросами о севооборотах, культуре посевных кормовых трав, о введении в местное полеводство новых культурных растений. Так, в 1913 году бюджет станции составлял 15 900 руб., из которых 7500 руб. было выделено казной, а 8400 руб. — губернским земством [36]. В 1914 году Симбирское губернское земство выделило на содержание опытной станции 17 232 руб., при этом правительственное пособие осталось неизменным — 7500 руб. [37]. В 1917 году эти расходы возросли до 23 010 руб., а правительственное пособие сохранилось без изменений [38].
Значение агрономических полей современниками оценивалось неоднозначно. Так, на агрономическом совещании губернии 8—9 августа 1917 года обсуждался вопрос о значении опытных полей. Одни земцы выражали отрицательное отношение к симбирскому опытному полю, которое было связано с его бездоходностью: при расходе в 1800 руб. оно давало доход в 5000 руб. Другие настаивали на том, что главная задача опытных полей — это исследование климатических и почвенных условий и выяснение новых путей развития крестьянских хозяйств. Главная причина отрицательного отношения к опытным полям, по мнению представителей земства, была в ошибках работы агрономов, которые должны были проводить необходимые показательные мероприятия на полях [39, л. 2—3].
Земства до последних дней своего существования стремились расширить агрономи- ческие мероприятия путем увеличения числа агрономов, создания новых опытных учреждений, распространения сельскохозяйственных знаний. Например, на одном из последних агрономических совещаний 26—27 июня 1917 года была принята резолюция о расширении агрономической помощи населению губернии. В ней, в частности, говорилось, что «…в основу общественной агрономии должно быть положено всемерное стремление к поднятию культуры сельского хозяйства в самом широком смысле этого слова» [39, л. 21]. Однако этим мероприятиям не суждено было осуществиться.
В результате Столыпинской реформы были созданы предпосылки к возникновению новых систем земледелия: исчезла чересполосица, крестьяне становились собственниками земли, накапливали знания, инвентарь; земледелие приобретало небывалые потенциальные возможности для своего развития.
Таким образом, столыпинская аграрная политика создавала условия для подъема земледелия страны. Однако правительству не удалось окончательно разрушить общинное землевладение и создать слой зажиточных крестьян-хуторян и отрубников в качестве основной опоры правительства в деревне. Недостаточная государственная поддержка и неспособность крестьян к переустройству своего хозяйства на капиталистический путь обусловливали хищническое использование земли, способствовали ухудшению почвенного плодородия страны.
Процесс реализации аграрной реформы внес значительные изменения в развитие земельных отношений в Симбирской губернии. Во-первых, достаточно большое количество крестьян заявило об укреплении надельной земли в личную собственность и своем выходе из общины: в Симбирской губернии их количество составило 20,8 %. Хотя община не была разрушена и продолжала свое существование, она была значительно ослаблена. Во-вторых, в деревне возникли новые формы крестьянских хозяйств — хутора и отруба, вследствие чего уменьшилась чересполосица и «длинноземелье» крестьянского землевладения и землепользования. Новые формы организации крестьянского хозяйства постепенно складывались в существующие порядки на селе, становясь естественной составной частью деревенской жизни.
Хутора и отруба за время своего существования показали свою эффективность и прогрессивность по сравнению с хозяйством большинства крестьян-общинников. Единоличные хозяйства были в большей степени заинтересованными в применении улучшенных систем полеводства, приобретении усовершенствованных сельскохозяйственных орудий труда. В этот период крестьяне начали заниматься подсобными отраслями сельского хозяйства: постепенно садоводство и огородничество в Симбирской губернии превращалось в неотъемлемую часть каждого крестьянского хозяйства, в первую очередь единоличного. Данные улучшения появились благодаря предоставлению крестьянам агрономической помощи, которая была организована губернским и уездными земствами.
За годы столыпинского реформирования произошли определенные изменения и в социальной сфере. Социальное расслоение деревни в этот период приобрело наиболее выраженную форму, чему способствовал рост имущественной дифференциации крестьянства. Улучшили условия своего существования зажиточные крестьяне, а бедные, даже перейдя на хутора и отруба, продолжали сталкиваться со многими проблемами, жили насущными нуждами и пока только надеялись, что в будущем им удастся произвести улучшение своего хозяйства.
Переселенческая политика, проводившаяся в рамках аграрной реформы, в целом не смогла разрешить проблему малоземелья в большинстве губерний Европейской России. Однако определенным достижением переселенческой политики было то, что началось успешное освоение огромных пространств азиатской части России. За 1906—1916 гг. в Сибирь уехало более 2,5 млн человек. В основном это были крепкие и сильные люди, принесшие большую пользу этому региону.
-
1. См.: Обзоры Симбирской губернии с 1902 по 1914 гг.
-
2. См.: Статистический ежегодник Симбирской губернии за 1906 год. Симбирск, 1907.
-
3. См.: Статистический ежегодник Симбирской губернии за 1913 год. Симбирск, 1914.
-
4. См.: Адрес-календарь Симбирской губернии за 1913 год. С. 189—190.
-
5. См.: Адрес-календарь Симбирской губернии за 1914 год. С. 65.
-
6. См.: Адрес-календарь Симбирской губернии за 1910 г. Симбирск, 1911. С. 233.
-
7. См.: Обзор Симбирской губернии за 1913 г. Симбирск, 1914. С. 7.
-
8. См.: Кабытов, П. С. Аграрные отношения в Поволжье / П. С. Кабытов. С. 68.
-
9. Дубровский, С. М. Столыпинская земельная реформа / С. М. Дубровский. М., 1963.
-
10. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 2. Д. 469. Л. 13.
-
11. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 198. Л. 3.
-
12. ГАУО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 234.
-
13. См.: Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1914 год.
-
14. См.: Подворная перепись крестьянских хозяйств Симбирской губернии в 1910—1911 гг. Симбирск, 1911—1913.
-
15. См.: Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1910 год.
-
16. См.: Тюкавкин, В. Г. Сибирская деревня накануне Октября / В. Г. Тюкавкин. Иркутск, 1966. С. 302.
-
17. См.: ГАУО. Ф. 535. Оп. 1. Д. 31.
-
18. ГАУО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 103. Л. 265.
-
19. Эстонцы и наши местные крестьяне-земледельцы // Симбирский хозяин. 1910. № 12. С. 6—7.
-
20. См.: ГАУО, Ф. 535. Оп. 1. Д. 31. Л. 1, 2, 3, 3 об., 6, 6 об.; Ф. 193, Оп. 1. Д. 265.
-
21. См.: Волжские вести. 1915. 28 апр.
-
22. Волжские вести. 1915. 5 мая.
-
23. См.: Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной поземельной переписи в 1917
-
24. См.: Захаркина, А. Е. Мордовия в годы трех народных революций (Хроника революционных событий) / А. Е. Захаркина, И. И. Фирстов. Саранск, 1957.
-
25. Крестьянское движение в России в 1914—1917 гг. М.—Л., 1965. С. 371.
-
26. См.: Воробьев, К. Аграрный вопрос в Симбирской губернии / К. Воробьев. Симбирск, 1917.
-
27. Слуцкий, А. С. Умозрение и реальность / А. С. Слуцкий // Крестьянский вопрос вчера и сегодня. М. : Современник, 1990. С. 95—100, 167.
-
28. См.: Погубернские итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи и Поземельной переписи 1917 года по 52 губерниям и областям. М., 1921. С. 26—28.
-
29. См.: Кондратьев, Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции / Н. Д. Кондратьев. М., 1991. С. 399.
-
30. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 78. Л.48.
-
31. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 45. Л.56.
-
32. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 72. Л.24.
-
33. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 198.
-
34. См.: Ростова, Т. А. Земство Симбирской губернии в 1905 — начале 1918 гг. : дис. … канд. ист. наук / Т. А. Ростова. Саранск, 2005.
-
35. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 221. Л. 101,243.
-
36. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 123. Л.8.
-
37. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 168. Л.253.
-
38. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 221. Л. 110,177.
-
39. См.: ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 224.
году // Тр. ЦСУ. М., 1923. Т. V. Вып. II. С. 113, 121.
Список литературы Итоги аграрной реформы П. А. Столыпина в Симбирской губернии к 1917 г
- Обзоры Симбирской губернии с 1902 по 1914 гг.
- Статистический ежегодник Симбирской губернии за 1906 год. Симбирск, 1907.
- Статистический ежегодник Симбирской губернии за 1913 год. Симбирск, 1914.
- Адрес-календарь Симбирской губернии за 1913 год. С. 189-190.
- Адрес-календарь Симбирской губернии за 1914 год. С. 65.
- Адрес-календарь Симбирской губернии за 1910 г. Симбирск, 1911. С. 233.
- Обзор Симбирской губернии за 1913 г. Симбирск, 1914. С. 7.
- Кабытов П. С. Аграрные отношения в Поволжье/П. С. Кабытов. С. 68.
- Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа/С. М. Дубровский. М., 1963.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 2. Д. 469. Л. 13.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 198. Л. 3
- Ф. 167. Оп. 1. Д. 234.
- Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1914 год
- Подворная перепись крестьянских хозяйств Симбирской губернии в 1910-1911 гг. Симбирск, 1911-1913.
- Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1910 год.
- Тюкавкин В. Г. Сибирская деревня накануне Октября/В. Г. Тюкавкин. Иркутск, 1966. С. 302.
- ГАУО. Ф. 535. Оп. 1. Д. 31.
- ГАУО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 103. Л. 265.
- Эстонцы и наши местные крестьяне-земледельцы//Симбирский хозяин. 1910. № 12. С. 6-7.
- ГАУО, Ф. 535. Оп. 1. Д. 31. Л. 1, 2, 3, 3 об., 6, 6 об.; Ф. 193, Оп. 1. Д. 265.
- Волжские вести. 1915. 28 апр.
- Волжские вести. 1915. 5 мая.
- Поуездные итоги Всероссийской сельскохозяйственной поземельной переписи в 1917 году//Тр. ЦСУ. М., 1923. Т. V. Вып. II. С. 113, 121.
- Захаркина А. Е. Мордовия в годы трех народных революций (Хроника революционных событий)/А. Е. Захаркина, И. И. Фирстов. Саранск, 1957.
- Крестьянское движение в России в 1914-1917 гг. М.-Л., 1965. С. 371.
- Воробьев К. Аграрный вопрос в Симбирской губернии/К. Воробьев. Симбирск, 1917.
- Слуцкий А. С. Умозрение и реальность/А. С. Слуцкий//Крестьянский вопрос вчера и сегодня. М.: Современник, 1990. С. 95-100, 167.
- Погубернские итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи и Поземельной переписи 1917 года по 52 губерниям и областям. М., 1921. С. 26-28
- Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции/Н. Д. Кондратьев. М., 1991. С. 399.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 78. Л. 48.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 45. Л. 56.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 72. Л. 24.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 198.
- Ростова Т. А. Земство Симбирской губернии в 1905 -начале 1918 гг.: дис.. канд. ист. наук/Т. А. Ростова. Саранск, 2005.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 221. Л. 101, 243.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 123. Л. 8.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 168. Л. 253.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 221. Л. 110, 177.
- ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 224.