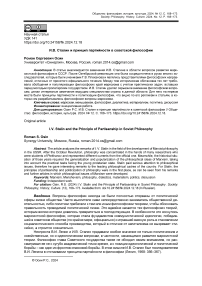И.В. Сталин и принцип партийности в советской философии
Автор: Осин Роман Сергеевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются замечания И.В. Сталина в области вопросов развития марксистской философии в СССР. После Октябрьской революции она была сосредоточена в руках многих исследователей, которые были учениками Г.В. Плеханова и являлись представителями философских направлений, отличных от принятого официального течения. Между тем историческая обстановка тех лет требовала обобщения и популяризации философских идей марксизма с учетом практических задач, вставших перед молодым пролетарским государством. И.В. Сталин уделял серьезное внимание философским вопросам, делал интересные замечания ведущим специалистам страны в данной области. Для него на первом месте были принципы партийности и политизации философии, что видно по его репликам и статьям, в которых им разрабатывались философские вопросы марксизма.
Марксизм, меньшевизм, философия, диалектика, материализм, политика, дискуссия
Короткий адрес: https://sciup.org/149146690
IDR: 149146690 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.18
Текст научной статьи И.В. Сталин и принцип партийности в советской философии
Введение . Вопросы философии никогда не были полностью оторваны от политической сферы жизни общества. Часто мыслители сами непосредственно занимались общественной деятельностью, либо политики прибегали к тем или иным философским теориям, чтобы обосновать правильность проводимой политической линии. Это вдвойне касается тех философских теорий, которым волею истории довелось превратиться в господствующие. В особенности это коснулось марксистской философии, которая стала фундаментом коммунистической идеологии, победившей в советском обществе (по крайне мере, официально) и игравшей важную роль в становлении социалистического способа производства, который в отличие от капитализма не вызревает стихийно, а строится сознательно.
Неспроста В.И. Ленин и И.В. Сталин придавали особое значение не только политическим и хозяйственным, но и идеологическим вопросам, в частности, касающимся развития марксистской теории. Философию глава Советского государства также не обходил своим вниманием, но рассматривал ее не с сугубо академической точки зрения, а с позиции идеологической и политической борьбы – как один из фронтов классовой борьбы. В этом смысле И.В. Сталин был последователем В.И. Ленина в отстаивании принципа партийности в философии (Ленин, 1968: 356–367).
Суть принципа партийности в философии состоит, во-первых, в последовательном и решительном проведении материализма в философии, на что прямо указывал В.И. Ленин в своем «Материализме и эмпириокритицизме» (Ленин, 1968), а, во-вторых, – в последовательной классовости философии. Любой философ, с одной стороны, не может выйти за рамки материализма или идеализма в решении основного вопроса философии, с другой – является порождением своего общества и своей эпохи, а, следовательно, неизбежно отражает интересы того или иного класса. Английский философ-марксист М. Корнфорт указывал, что «необходимо иметь свою собственную философию. Опыт показывает, что, если у нас нет своей собственной революционной социалистической философии, тогда неизбежно наши философские идеи становятся результатом заимствования из враждебных, антисоциалистических источников» (Корнфорт, 1956: 17). Стоит отметить, что и сегодня философия является ареной столкновения самых разных политических сил, выражающих интересы разных классов и социальных групп современного общества. Наиболее ярким примером может послужить широкая общественная дискуссия вокруг мировоззренческих основ недавно введенного курса «Основы российской государственности, а также полемика вокруг открывшейся в апреле 2024 г. Высшей политической школы им. Ивана Ильина при РГГУ.
«Бить по всем направлениям и там, где не били » . Партийно-политический подход И.В. Сталина к философии показательно проявил себя в беседе бюро ячейки Института красной профессуры философии и естествознания по вопросу о положении на философском фронте с т. Сталиным 09 декабря 1930 г.1 Как свидетельствуют записи этой беседы, сделанные философом М.Б. Митиным, во время этой беседы И.В. Сталин неоднократно указывал не необходимость «боевого» подхода к решению задач на философском фронте идеологической борьбы, всеми своими формулировками давая понять, что рассматривает область философии не только с мировоззренческой, но и с политической точки зрения. На той встрече И.В. Сталин не просто ориентировал ученых на партийный и боевой подход к решению философских задач, но считал важнейшей задачей вскрывать идеологические и философские воззрения классовых противников со знанием дела, вникая не только в общие, но и в специальные вопросы философии, естествознания и пр. В подобной борьбе И.В. Сталин видел и источник роста для философских кадров. Он прямо говорил: «Ваша главная задача теперь – развернуть вовсю критику. Бить – главная проблема. Бить по всем направлениям и там, где не били. Вам надо иметь секции, ячейки по специальностям. Надо специализироваться. Работать не торопясь. В ходе борьбы вырастут кадры. Научатся в ходе философской борьбы. К чему приведут бои – трудно заранее сказать. Однако, несомненно, только такая критика и борьба даст большой толчок теоретической мысли, приведет к целому ряду новых теоретических вопросов и проблем»2.
И.В. Сталин обратил внимание и на сильнейшее влияние меньшевиствующих элементов в философии. Не секрет, что многие бывшие умеренные социал-демократы были привлечены к преподаванию философии (П.Б. Аксельрод, А. Деборин). И.В. Сталин обращал внимание не только на сугубо внешние корни оппортунизма, но требовал вскрывать его даже там, где с виду он маскировался под марксизм.
Критика идеализма Г. Гегеля . Обратил внимание И.В. Сталин и на необходимость более четко раскритиковать идеализм Г. Гегеля. И.В. Сталин прямо подчеркнул, что К. Маркс и Ф. Энгельс, в отличие от А. Деборина и его последователей воспринимали критически наследие Гегеля. Так, в частности, И.В. Сталин указывал: «Наряду со своим формализмом они придерживаются взглядов созерцательного материализма. Они хуже Плеханова. Диалектика для деборин-цев точно как готовый ящик, а Гегель является иконой для них. Они берут Гегеля таким, каким он был. Они реставрируют Гегеля и делают из него икону. Между тем Маркс и Энгельс поступали совершенно по-иному. Маркс переработал Гегеля под углом зрения материализма, критиковал его, поднялся на высшую ступень». Данное высказывание И.В. Сталина и сейчас не утратило актуальности, в особенности в свете марксистских кружков, многие из которых явно увлекаются некритичным изучением философии Г. Гегеля, забывая о том, что К. Маркс и Ф. Энгельс восприняли лишь часть философской системы Г. Гегеля, а именно его диалектику, но напрочь отбросили весь гегелевский идеализм.
Так, в послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала» К. Маркс прямо писал: «Мой диалектический метод по своей основе не только отличен от гегелевского, но и является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» (Маркс, 1978: 21).
Отсюда понятно, что без очищения диалектики от идеализма, мы не получим подлинной диалектики как учения о всеобщих закономерностях развития материального мира и мышления как свойства высокоорганизованной материи, а так и останемся в хитросплетениях философской мысли, парящей над реальностью и переходящей из одной формы в другую. Очевидно, что подобная философия мало могла дать социалистическому строительству и пропаганде коммунистических идей. И.В. Сталин это прекрасно понимал и поэтому в полном соответствии с марксистской методологией ориентировал советскую философию на борьбу с гегельянщиной и последовательное проведение в жизнь материалистической диалектики. Это не означает, что И.В. Сталин звал к отказу от Г. Гегеля, но он требовал от философов, признавая прогрессивное «зерно» диалектического метода Г. Гегеля, четкого обособления материалистической диалектики от идеалистической. Стоит отметить, что во многих работах по философии, написанных в 1930–1950-е гг., эта сталинская мысль нашла свое отражение и развитие (Леонов, 1948; Розенталь, 1952; Руткевич, 1952).
Философия и вопросы классовой борьбы . И.В. Сталин в беседе с мыслителями очень точно соотносил отклонения в абстрактных вопросах чистой философии с классовой борьбой «Можно и должно связывать, ибо всякие отклонения от марксизма, даже в самых абстрактных вопросах теории приобретают политическое значение в обстановке обостренной классовой борьбы»1. Как видно, он прекрасно понимал, что нельзя быть ревизионистом в философии и марксистом в политической экономии. Даже самые абстрактные, вроде бы сугубо теоретические вопросы могут приводить по итогу к оппортунистической политической линии.
В вопросах материалистического понимания истории И.В. Сталин указывал на необходимость критики Г.В. Плеханова и его географического уклона. Так, он говорил: «Плеханова надо разоблачить, его философские установки. Он всегда свысока относился к Ленину, а также Юшкевич, Валентинов, Базаров и др. Перерыть надо теперь все их работы, как они критиковали Ленина, как они относились к нему, к “Материализму и эмпириокритицизму”. У Плеханова в вопросах исторического материализма географический уклон от марксизма (“Основные вопросы марксизма”)»2.
И.В. Сталин призывал философов обратить внимание на теоретическое наследие В.И. Ленина и увязывать это теоретическое наследие с задачами практики социалистического строительства, философскую науку в целом с задачами пропаганды, идеологического обеспечения движения к коммунистической формации.
Надо сказать, что для таких мыслей у него были все основания, поскольку социально-гуманитарные науки, в том числе и философия, после Великой Октябрьской революции находились под серьезным влиянием бывших меньшевиков, ленинский же вклад в философию зачастую не получал должного распространения. Не вдаваясь в детальное рассмотрение точек зрения и направлений в советской философии 1920-х гг., можно отметить, что, во-первых, И.В. Сталин рассматривал вопросы философского просвещения в тесной связи с политической практикой. Ему была чужда теория ради теории, философия ради философии. И.В. Сталин рассматривал ее как инструментарий для пропаганды и практического строительства социализма. Вместе с тем это не означало, что советский лидер был прагматиком, не понимающим значения теории. Напротив, именно его рассмотрение философии и теории как таковых в тесной связке с практическими задачами социалистического строительства давало простор для развития и самой теории, не позволяли ей превращаться в оторванную от жизни схему. Увы, на практике подобного не всегда удавалось избежать, но И.В. Сталин делал все от него зависящее, чтобы данный процесс не принял угрожающих форм. Во-вторых, он готов был идти на творческое развитие марксизма и даже критику такого классика, как Ф. Энгельс. В-третьих, И.В. Сталин требовал системности и партийности в критике. По итогу уклоны 1920-х гг. были побеждены, а марксистская философия стала достоянием широких масс трудящихся, а 25 января 1931 г. Политбюро ЦК ВКП (б) было утверждено Постановление о журнале «Под знаменем марксизма»3, где и были сосредоточены многие бывшие меньшевистские кадры из деборинской школы. Можно много спорить о том, насколько в данном постановлении объективно были оценены конкретные люди (вопрос действительно дискуссионный и требует более глубокого изучения), равно как не стоит забывать и о тяжелой судьбе ряда философов этой школы, что вряд ли было адекватно сложившейся ситуации, однако факт того, что указанный документ настраивал философскую науку на политическую, партийную борьбу с разного рода уклонами, что данное постановление прививало философам того времени стремление диалектического соединения теории и практики, на наш взгляд, представляется очевидным. Таким образом, философская наука полностью ориентировалась на задачу борьбы с антимарксистскими уклонами и задачи социалистического строительства в СССР.
И.В. Сталин же выступил как талантливый популяризатор и систематизатор марксистской философии в статье «О диалектическом и историческом материализме» (Сталин, 1945), которая одновременно стала одной из глав «Краткого курса» истории ВКП (б).
Заключение . Сегодня многие исследователи либо недооценивают философский вклад И.В. Сталина в популяризацию и развитие марксизма, либо откровенно умаляют его значение. Еще А.М. Деборин в неопубликованном при его жизни предисловии к одному из томов своих сочинений, вышедшем в свет только в 2009 г. в «Вопросах философии», писал: «Нечего скрывать: Сталин ничего в философии не понимал. Я сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь проштудировал по-настоящему хоть одну книгу Гегеля или Канта. Но ему это и не нужно было, так как он мнил себя величайшим философом, в чем его уверили не менее великие “философы” Митин, Юдин и другие»1.
Впрочем, важно понимать, что тут мы имеем дело с явно тенденциозным мнением обиженного интеллигента, попавшего в опалу при И.В. Сталине (хотя не посаженному и не расстрелянному). Доказательств философской «безграмотности» И.В. Сталина А.М. Деборин, разумеется, не приводит, ограничиваясь своим субъективным мнением.
Подобный настрой был подхвачен публикациями времен «перестройки». Так, доктор философских наук И. Яхот написал в 1981 г. работу с говорящим названием «Подавление философии в СССР (20–30-е годы)» (Яхот, 1981). Другой доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РСФСР Н.Н. Маслов в полном соответствии с правилами хорошего тона тех лет и вовсе писал, будто задачей всех дискуссий было возвеличивание авторитета лично И.В. Сталина, стремление «расчистить путь на философский Олимп для него, Сталина, который должен был стать корифеем философской науки на все последующие времена» (Маслов, 1991: 62). Большинство «перестроечных» публикаций об И.В. Сталине не отличались оригинальностью и были выдержаны в духе вышеприведенных антисталинских псевдонаучных поделок, хоть и выполняли их зачастую люди, получившие образование при ненавистном им И.В. Сталине.
Говоря же по существу озвученного выше, на наш взгляд, подобные утверждения имеют мало общего с реальностью, в особенности если мы проанализируем теоретическое философское наследие самого И.В. Сталина предметно и абстрагируемся от пропаганды об «удушении философии». Начать стоит с того, что, во-первых, авторитет у И.В. Сталина имелся и без всякой философии. Сама практика строительства нового общества, испытания реальной жизнью показали, что И.В. Сталин из себя представляет. Во-вторых, ореолом теоретика пытались себя окружить и другие руководители партии, однако никто из них после И.В. Сталина не рассматривается всерьез в этом качестве. И дело все в том, что последний занимался теоретическими вопросами без помощи так называемых спичрайтеров, писал свои речи и статьи сам, чему есть множество свидетельств2. Кроме того, он занимался теоретическими вопросами задолго до того момента, как стал у руля государства и партии. В-третьих, люди, непосредственно работавшие с И.В. Сталиным, дают иную оценку его теоретического уровня подготовки. Так, к примеру, отзываясь в беседах с писателем Феликсом Чуевым о теоретических способностях И.В. Сталина, Л.М. Каганович прямо говорил, что «некоторые считают, что Сталин не теоретик. “Вопросы ленинизма” читали, конечно? Классический труд. Понятие “марксизм-ленинизм” ввел Сталин... Ленин писал вчера. Он разбрасывал золотые самородки во всех речах, во всех выступлениях, у Ленина везде есть гениальная теоретическая мысль, гениальные философские, экономические труды. Сталин все эти золотые россыпи собрал, соединил, классифицировал и дал характер капитального, обоснованного, очищенного золотого слитка. “Об основах ленинизма” – это философия ленинизма, золотой слиток ленинизма. В этом величие его труда. Я считаю, что это труд величайший. Сталин именно по-ленински умел соединять теорию с практикой... Сталин подходит всегда и ко всему диалектически. Вы не найдете у него неподготовленности ни в одном вопросе. Он всегда брал вопрос кратко и ставил на два фронта – левый и правый. Это не право-лево, а в середине центр, это – диалектика. Он давал главное, сущность»3.
Но кто-то может сказать, что данный отзыв исходит от одного из ближайших соратников И.В. Сталина, тем более не теоретика, а практического партийного работника, которым был Л.М. Каганович. Что же, можно обратиться к другому политическому деятелю, на сей раз, одному из виднейших идеологов партии того времени, да к тому же в дальнейшем соавтору доклада Н.С. Хрущева на ХХ въезде – Д.Т. Шепилову. Последний к И.В. Сталину относился существенно более критично, чем Л.М. Каганович, но, будучи принципиальным и идейным человеком, да к тому же одним из тех теоретиков партии, который достаточно плотно работали с И.В. Сталиным именно по вопросам теории (Д.Т. Шепилов входил в комиссию по подготовке учебника политической экономии), он мог сказать о советском лидере как теоретике больше многих других партийных деятелей. Так вот, Д.Т. Шепилов в своих воспоминаниях прямо описал свои впечатления от бесед с И.В. Сталиным по вопросам политической экономии и марксистской теории в целом, он отметил, что «беседы со Сталиным на эти темы оставляли ощущение, что имеешь дело с человеком, который владеет темой лучше тебя»1. Думается, что отзыв такого человека весьма показательно и объективно характеризует И.В. Сталина как выдающегося теоретика марксистской мысли.
Разумеется, мы не отрицаем определенных негативных сторон в политике в отношении философии тех лет. Чрезмерная цензура, апологетические статьи в адрес «вождя народов», чрезмерно жесткое (а порой и жестокое) отношение к опальным философам – это то наследство, от которого нужно отказаться и не стоит повторять в будущем. Развитие мысли должно сопровождаться здоровыми научными дискуссиями и демократической обстановкой творчества, а не обвинительными заключениями и репрессиями. Но за деревьями важно видеть лес. Во-первых, следует учитывать исторические условия того времени, которые требовали жесткой борьбы с уклонами в идеологии и четкой политической линии. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что субъекты противостояния прошли школу Гражданской войны и царского подполья. Она во многом приучала людей к военным методам противостояния. А угроза войны лишь усугубляла такие и без того антидемократические привычки. Во-вторых, при всех негативных аспектах, связанных с чрезмерной цензурой, главные задачи, а именно борьба с уклонами в общественных науках и популяризация ортодоксального марксизма ленинского толка в целом и философии в частности, были выполнены. Поэтому, несмотря на указанные сложности, отдельные недостатки в процессе реализации философского просвещения в СССР, общая линия приведения философии в соответствие с марксизмом, борьба с разного рода уклонами и, самое главное, популяризация философии для широких масс населения была верной, и с этой задачей (в особенности с популяризацией) советское руководство справилось. В истории представлен колоссальный опыт написания доступных, системных и логически выверенных учебников по общественным наукам, чего, к сожалению, не хватает современной учебной литературе.
Список литературы И.В. Сталин и принцип партийности в советской философии
- Корнфорт М. Диалектический материализм. Введение. М., 1956. 501 с.
- Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полное собрание сочинений. М., 1968. Т. 18. 526 с.
- Леонов М.А. Очерк диалектического материализма. М., 1948. 656 с.
- Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М., 1978. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. 907 с.
- Маслов Н.Н. Об утверждении идеологии сталинизма // История и сталинизм. М., 1991. С. 37-86.
- Розенталь М.М. Марксистский диалектический метод. М., 1952. 348 с.
- Руткевич М.Н. Практика - основа познания и критерий истины. М., 1952. 243 с.
- Сталин И.В. О диалектическом историческом материализме. М., 1945. 36 с.
- Яхот И. Подавление философии в СССР (20-30-е гг.). Нью-Йорк, 1981. 296 с.