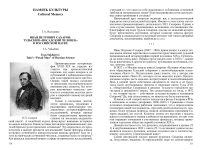Иван Петрович Сахаров: тульский "посадский человек" в российской науке
Автор: Володина Татьяна Андреевна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Память культуры
Статья в выпуске: 64, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается творческая биография Ивана Петровича Сахарова, яркого представителя «непрофессионального» направления в российской исторической науке первой половины XIX в. Он исследовал историю Тульской губернии и активно занимался сбором и изданием фольклора русского народа. Исследуются интеллектуальная атмосфера российского провинциального общества 1820-х гг. и те социальные, политические и духовные факторы, которые подталкивали его представителей к изучению местной истории. Важнейшими из этих факторов явились Отечественная война 1812 г. и выход в свет «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Особое внимание уделяется жизненному опыту и личностным особенностям И.П. Сахарова, а также его мировосприятию интеллектуала недворянского происхождения. Показывается, как его личностные особенности оказывали влияние на его научную работу, на его увлечение фольклористикой и, наконец, на его издательскую деятельность. На примере И.П. Сахарова раскрываются характерные черты менталитета «посадских людей» - социального слоя, являвшегося частью городского населения российской провинции. В отличие от разночинцев пореформенного времени, которые в массе своей усваивали революционнодемократическое мировоззрение, «посадские люди» 1830-х гг. стояли на консервативных и националистических позициях.
Российское самодержавие, тульская губерния, духовная культура, фольклор, черная магия, консерватизм, национализм, новая интеллектуальная история, местная история, историография, история культуры, гомосексуализм, и.п. сахаров
Короткий адрес: https://sciup.org/149127053
IDR: 149127053 | DOI: 10.24411/2072-9286-2020-00013
Текст научной статьи Иван Петрович Сахаров: тульский "посадский человек" в российской науке
Провинциальная историография XVIII-XIX вв. нередко изучается как хронологический перечень дат, имен авторов и их публикаций с добавлением изрядной доли краеведческого пиетета. Однако такой подход оставляет за пределами исследовательского внимания ряд сюжетов, без которых невозможно «вписать» личности и сочинения местных авторов в широкий социокультурный контекст.
Только в последние десятилетия проявилась тенденция к расширению проблематики традиционных историографических исследований, которые прежде были сосредоточены преимущественно на эволюции академиче ской науки1. А подобный подход фокусирует внимание историков на новых вопросах. Какие мотивы заставляли провинциальных деятелей браться за исторические сочинения? Что определяло их предпочтения в выборе предмета исследований? Какие факторы влияли на форму сочинений и концептуальные выводы авторов? Был ли у этих исторических сочинений читатель, и каковы были его запросы? Как решался денежный вопрос в сфере исторических исследований, по учитывая то, что сами по себе изыскания и публикация сочинений требовали материальных затрат? Как выстраивались интеллектуальные связи провинции и столицы?
Намеченный круг вопросов подводит нас к методологической парадигме интеллектуальной истории. Именно в этом ключе мы попытаемся проанализировать деятельность И.П. Сахарова. Однако в этом случае помимо традиционных источников, составляющих библиографию научных трудов Сахарова, для нас не меньший интерес будут представлять источники, которые позволят вписать фигуру Сахарова в социальный и культурный контекст той эпохи (архивные документы, воспоминания, переписка и т.п.).
* * *
Иван Петрович Сахаров (1807 - 1863) принадлежит к плеяде тех, чьи имена обычно перечисляют в качестве представителей тульской провинциальной историографии первой половины XIX в. Печататься он начал очень рано. Первая статья увидела свет в 1830 г.2, вскоре были напечатаны и другие его работы: публикации источников, статьи, заметки, книги.
В 1832 г. в Москве вышла книга Сахарова «История общественного образования Тульской губернии» с многообещающим подзаголовком «Часть I». Подзаголовок давал понять, что у автора уже написана некая «Часть II», которую он не замедлит издать. Предполагаемая вторая часть казалась интригующей и многообещающей. Ведь в первой части собственно авторского-то текста и не было: здесь были опубликованы грамоты и писцовые книги Тулы XVII в., обнаруженные Сахаровым в архивах Тульского городового магистрата и оружейного завода. Так существовала ли тогда, в 1832 г, эта «вторая часть» - собственно тульская история в изложении Сахарова? Да, она существовала, но никогда не была напечатана.
Рукопись этой «второй части» находится в фонде Сахарова в РГБ, и написание ее можно датировать 1828-1830 гг. Сравнение с более поздними сахаровскими работами доказывает, что в определенном отношении юный исследователь, при всей своей неопытности, поднимал более трудные вопросы, нежели добившийся признания Сахаров двадцать лет спустя. Конечно, ответы его выглядят с высоты нашего сегодняшнего знания слабыми и неуверенными, но при этом они отражают изменения в умственных процессах, которые происходили в русском обществе первой половины XIX в.
Доказательством того, что рукопись, сохранившаяся в архиве (Ч. 2) и опубликованная в 1832 г. книга (Ч. 1) составляют единое целое, являются сноски в рукописи, которые отсылают нас к соответствующему документу в напечатанной книге3.
Самой интересной частью ранней рукописи Сахарова является, безусловно, введение. В определенной мере он демонстрирует здесь знакомые и привычные компоненты диссертационных работ: выделяет предмет своего исследования, дает характеристику предшествующих работ, очерчивает круг привлекаемых источников4. Среди своих предшественников на ниве тульской истории Сахаров упоминает работы Ф.Г. Дильтея, В.А. Левшина, Ф.Г. Покровского и И.Х. Гамеля, но считает их безнадежно устаревшими, написанными под влиянием «верований в сказания Татищева и Щербатова». Сахаров упрекает их в отсутствии исторической критики источников и пренебрежении архивными материалами. Вердикт его отдает юношеским максимализмом: «Незабвенный историограф Н.М. Карамзин в примечаниях к истории государства Российского поместил разные выписки о событиях сей губернии, за которые одни обменяют более всех сих описаний»5.
На каком же фундаменте собирался строить свое здание тульской истории Сахаров?
Для него самого ответ ясен: «Заранее предвидев, что труды их не могут служить для меня пособием, решился искать для своего занятия оснований прочных и незыблемых»6. Под прочными основаниями понимаются им документы тульских архивов, доступ к которым ему открыло «благодетельное снисхождение начальства».
Напомним: Иван Сахаров в это время - 20-летний семинарист. Каким образом мог он получить доступ в тульские архивы? Отец его, Петр Андреевич Сахаров, сначала был дьяконом, а потом священником в Туле. Когда мальчику исполнилось 6 лет (в 1813 г), отец умер. Верх мечтаний для сироты из духовного звания - духовная семинария и место приходского священника. Однако юный Сахаров стремится выбраться из этой социальной колеи, и средством для этого становится история. Как и все юноши 1820-х гг, он подпадает под магическое воздействие «Истории» Карамзина. Начальные принципы работы Сахарова над тульской историей нетрудно спрогнозировать - из 12-томной «Истории государства Российского» он начал выписывать все факты, которые касались тульского края. Нужно признать, что до появления «Ключа» Н.М. Строева такая работа сама по себе равнялась изучению курса отечественной истории.
Благодаря этим ученым занятиям юноше удалось привлечь к себе внимание тех людей, кто мог оценить его устремления. Таких было немного, на весь губернский город их набралось десятка два, и по социальному статусу они стояли намного выше Сахарова: губернский землемер Д.Т Комаров, штабс-лекарь Ф.Э. Громницкий, чиновник Тульской губернской казенной палаты А.Е. Цветков, бе-левский помещик И.Ф. Афремов, директор Тульской гимназии Е.Н. Воронцов-Вельяминов и некоторые другие. Именно «покровители» устроили Сахарову прием у губернатора, два вечера подряд юноша читал тому свои сочинения7.
Тульский губернатор Иван Христофорович фон Трейблут, генерал и масон, сам не чуждался сочинительства и печатания своих 112
стихов. Да к тому же до него доходили слухи, что из самого Петербурга собираются прислать ученую экспедицию, чтобы осматривать архивы и библиотеки на предмет старинных рукописей и документов (речь шла об археографической экспедиции П.М. Строева). Трейблут и отдал распоряжение допустить Сахарова в губернские архивы: дескать, напишет или не напишет семинарист тульскую историю - дело десятое, но он хотя бы прояснит, в каком состоянии находятся эти документы.
Результатом этого допуска и стала первая часть «Истории общественного образования Тульской губернии» (1832 г), в которую Сахаров включил все найденные им документы: писцовые книги тульского посада 1624, 1629 и 1685 гг, а также некоторые грамоты. Археографические принципы в этом издании находятся еще на «младенческом» уровне: при публикации Сахаров свел вместе все три книги, так что стало непонятно, к какому именно году относится та или иная запись, да еще и отредактировал текст. Эти материалы и должно было положить, по мысли Сахарова, «прочным основанием» тульской истории: не Левшина или Покровского, а архивные грамоты и документы. Однако воплотить в жизнь этот замысел оказалось невозможно, и надежду, что «из Тульской истории выйдет история лучше Карамзина» Сахаров назовет позже «жалкой ошибкой»8. Необходимо разобраться, почему его постигло такое разочарование.
«История» Карамзина, безусловно, была высочайшим достижением исторического таланта, сплавом рационалистической методологии XVIII в. и нового литературного языка века девятнадцатого. Она и читалась так легко и увлекательно, потому что в ней люди, наделенные разумом и страстями, вступали в борьбу, творили заговоры, сражались в битвах и сочиняли законы. В методологических координатах того времени, история была драмой, а правители и герои выступали на ее авансцене. В тульском случае все это было достаточно трудно воплотить в нарратив: Тула не была центром удельного княжества, не имела собственной традиции летописания, а из писцовых книг с перечислением слобод, церквей, дворов и количества жителей не получалось драмы. Герои отказывались выходить на сцену.
Сахаров вполне осознанно понимал это противоречие: «История Тульской губернии не может быть политическою. Если и были на пространстве сей губернии события политические, имевшие влияние на все государство, то они, как явления посторонние, не зависящие от действия жителей, не имеют права на политический быт»9. Доказательством служит само название рукописи - «История общественного образования Тульской губернии».
Конечно, сразу же бросается в глаза концептуально-методологическое противоречие, когда понятие и явление XIX в. (Тульская губерния) опрокидывалось в древность. Гораздо интереснее другое словосочетание - «общественное образование». Что имелось в виду, почему такой необычный заголовок? Ведь в первой половине XIX в. слово «образование» употреблялось в значении: обучение либо учреждение чего-либо10. Оба значения не укладываются в смысл сахаровского названия. Однако в Словаре В.И. Даля находим и другое значение, которое постепенно выходило из употребления в XIX в.: образовывать - придавать чему-то образ, обтесывать нечто цельное из сырья. В соответствии с этим Сахаров заявляет своей целью - обратить все свое внимание на жизнь граждан, их верования и нравы, постепенность общественного развития. В целом в его понимании «образование» - это постепенный процесс развития от первоначальной племенной дикости к более цивилизованному обществу со сложным социальным устройством, учреждениями, городами и т.п.
Сахаров уловил запрос на общий методологический сдвиг в понимании предмета исторической науки, который наметился в 1830-е гг. Именно поэтому он, признавая драгоценность примечаний Карамзина, одновременно с этим приходил к выводу: «В прагматическом изложении русских событий Полевого находим разрешения на самые трудные вопросы, и его верные взгляды на историю русского народа радуют всякого благомыслящего гражданина»11. Действительно, по своим взглядам и особенностям биографии Сахаров не мог не откликнуться на идеи Полевого.
Среди тех, кто занимался историей в 1830-е гг, трудно найти человека, будоражившего сознание современников больше, чем Николай Алексеевич Полевой. Под пером этого сибирского купца-самоучки рушились репутации, статьи в его журнале «Московский телеграф» становились причиной не только журнальной полемики, но и разрыва личных отношений. Полевой вынес приговор Карамзину и попросту объявил «Историю государства Российского» устаревшей.12
Однако одно дело сочинить статью с изложением новой концепции, а другое - написать обширное историческое сочинение, раскрывающее «дух народа». Полевой выступил возмутителем спокойствия, но по популярности среди читателей его «История русского народа» никогда не могла даже приблизиться к труду Карамзина. А в сочинении Сахарова народный дух и вовсе воплощался в какие-то бытовые и прозаические рассказы о целительности бани, о любви к рыбным кушаньям, приправленным луком и чесноком, о девичьих 114
играх и неприятии табака13. Все слабости истории Полевого и местных историй типа сахаровской блестяще высмеял Пушкин в «Истории села Горюхина». Это незаконченное сочинение было написано осенью 1830 г, и являлось оно злой пародией на исторические сочинения Полевого14.
Вымышленный Пушкиным автор решает заняться написанием истории, имея за плечами лишь образование, полученное у местного дьячка. Он, как и положено историку, дает обзор источников, на которых основывается его сельская хроника (собрание старинных календарей с собственноручными записями прадеда, летопись го-рюхинского дьячка, изустные предания и ревизские сказки с пометками старост). Приведем лишь некоторые цитаты из «Истории села Горюхина»:
«Страна, по имени столицы своей Горюхиным называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ... Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года переходят вброд, предварительно засучив портки до колен»15.
Идеи Полевого становились у Пушкина объектом иронии и сарказма, а Сахарова тянуло именно к Полевому. Может быть, здесь срабатывал дух сословной солидарности с недворянином, а может быть, он чувствовал, что исторические идеи Полевого несут в себе позитивный импульс с точки зрения развития науки. Так или иначе, но Сахаров, поступив в Московский университет, знакомится с Полевым и начинает доставлять ему различные материалы для печати. В эти годы (1830 - 1833 гг.) вышло семь публикаций Сахарова в «Московском телеграфе». К тому же он обеспечил Полевому практически половину объема книги «Русская вивлиофика», доставив издателю документы, скопированные им в тульских архивах16.
Помимо искреннего интереса к прошлому, Сахаров рассматривал занятия историей и как способ социального продвижения: «Бедному человеку, без связей и средств, трудно было пробраться в круг этих людей. Это я испытал сам. Года два жизни стоило мне, чтобы обратить только внимание их на себя»17.
Наряду с «покровителями» выделилась и группа недоброжелателей. Одну ее часть представляли конкуренты по части исторических изысканий. Как ни мало было количество потенциальных «историков» в Туле, но чувства ученого честолюбия и зависти были им знакомы. Сахаров называет: мещанина Грязева, который вел записи о тульских событиях и «имел какие-то записи от Вознесенского дьякона, прожившего около ста лет (как же это перекликается с «летописью горюхинского дьячка»); священника Т.Т. Хитрова, «доставшего себе тетрадь Феофилакта Покровского»; и Н.Ф. Андреева, «купившего бумаги В.А. Левшина о Тульской губернии». С застарелой обидой он прибавляет, что бумаг Покровского и Левшина никогда не видел, ибо соперники их скрывали.
Другую часть недовольных составляло духовное начальство: глава епархии архиепископ Дамаскин, ректор Тульской духовной семинарии архимандрит Стефан и некоторые семинарские профессора. В их глазах поведение семинариста выглядело неслыханной наглостью, ибо нарушало принятые модели поведения, социальную субординацию и принцип «всяк сверчок знай свой шесток». Если «покровители» относились к людям либерального образа мысли, то «недоброжелатели» отличались последовательным консерватизмом.
В воспоминаниях одного из церковнослужителей, который преподавал в Тульской духовной семинарии именно в это время, рисуются яркие портреты тех, с кем общался Сахаров18. Среди них мы находим и сахаровских недоброжелателей со свойственными им чертами: жестокостью, алчностью и развитым чувством казенной субординации19. Профессор и инспектор Козьма Максимович Органов - «Был жесток к ученикам и мстителен. Любил шептателей. За что его ненавидели.... По должностям строг, с подчиненными важен»20. Не удивительно, что этот Органов отказался показать Сахарову документы, хранившиеся в Успенском соборе, мотивируя это просто: «На что нам твоя история Тулы? Жили мы счастливо без нее до тебя, проживем и после тебя, так же весело и покойно»21. От неприятностей, которые грозили Сахарову со стороны церковного начальства, его сумел избавить И.Ф. Афремов. Этот человек вообще играл особую роль в судьбе юного историка: «Он был моим хорошим знакомым, покровителем перед тульскими губернаторами и защитником на суде Дамаскина и Стефана»22. Именно ему Сахаров посвятил «Достопамятности Венева монастыря» (1831 г), а во всех изданиях «Сказаний русского народа» изъявлял благодарность.
Помимо интереса к истории и умения «пробраться в круг нужных людей» Сахарову была свойственна еще одна черта, которая составляла, пожалуй, главный стержень его личности. Для ее обозначения можно использовать множество терминов, исполненных позитивной или негативной коннотации: «патриотизм», «национализм», «славянофильство», «русопятство», «шовинизм». Причем, выбор термина по большей части определяется не сущностью явления как такового, а позицией того, кто использует термин. С точки зрения Сахарова, иностранное влияние, в первую очередь европейское, подтачивает Россию. Пагубность эта идет «рука об руку с дворянским просвещением, ложным, бесполезным и вредным для нашего отечества»23.
Как только дело касается европейской культуры, слог Сахарова становится ярким, образным, исполненным ядовитого сарказма. Одни лишь казенные учебные заведения, по его мнению, могут образовать достойного русского гражданина, а европейские бродяги, хлынувшие в Россию (созвучно фамусовскому «Берем же побродяг 116
и в дом и по билетам») на столетие вперед заложили в умы дворянства идеи космополитизма и презрения к России. Сахаров использует для таких наставников говорящие имена (перефразируя фамилии Мерзенштейн и Гаденбург из стихотворения М.Н. Лонгинова «Два рыцаря» (1853 г), ходившего в списках и имевшего яркую националистическую окраску) - «Мерзенштейны и Скотенберги»24 и с гордостью подчеркивает свою «русскость»: «Благодарю Господа, что над моею головою не работала ни одна французская тварь. Горжусь, что вокруг меня не было ни одного немецкого бродяги. Я не преклонялся ни пред одним сапожником-французом и не принимал от него наставлений, как презирать отца и мать, как ненавидеть родину и как расточать достояние отцов и дедов. За меня ни одной копейки не перешло в карман бродяг»25.
Эта яростная сосредоточенность на всем русском в противовес европейскому не была присуща Сахарову лишь в конце жизни, когда он писал свои воспоминания. Может быть, он не так четко артикулировал эти чувства в бытность свою в Туле, но ощущал он их уже в молодости. Собственно, чтение Карамзина и началось для Сахарова после случая, который больно задел его: немцы-гувернеры в беседе утверждали, что у России нет своей истории.
Еще более яркий эпизод относится к 1837 г, когда в гостях у А.Ф. Воейкова Сахаров практически устроил скандал в пароксизме русского патриотизма. На этом вечере, который был организован по случаю открытия Воейковым типографии, присутствовал цвет петербургских литераторов. Сахаров вспоминал: «Неожиданно аристократия предложила тост в память Гутенберга: полурус -ские-полунемецкие наши бояре обрадовались этому тосту и запивали память чужеземца»26. С отчаянными криками Сахаров обвинил «аристократию» в пренебрежении памятью своего родного первопечатника: «В том нет русской крови, кто не захочет почтить память Ивана Федорова!» Нестор Кукольник зарыдал, бросился обнимать и целовать Сахарова, некоторые другие смотрели на эти крики «со злобой». Здесь Сахаров рисует себя главным патриотом и борцом за Россию на фоне всех этих «дворян от литературы» (П.А. Вяземский, В.Ф. Одоевский, В.А. Жуковский и другие). Впрочем, в воспоминаниях И.И. Панаева, который тоже присутствовал на этом вечере, на первый план выходит пьяный вздор, слезы и крики, от которых остается гадкое послевкусие27. А в знаменитом «Дневнике» А.В. Никитенко и вовсе находим прозаически грустное описание: «Я предложил соседям тост в память Гутенберга. “Не надо, не надо, - заревели они, - а в память Ивана Федорова!».... В результате у меня пропали калоши, и мне обменили шубу»28.
Однако Сахаров прекрасно умел держать себя в руках, если это нужно было для достижения его собственных целей. Ненависть к «немцам» не помешала ему прочесть свои сочинения у губернатора Трейблута или посвятить свою «Историю общественного образо- вания Тульской губернии» Е.Е. Штадену - военному губернатору, который оплатил типографские расходы по изданию книги. За демонстративное подчеркивание своей «исконности» в литературных салонах Петербурга Сахаров даже получил прозвище - «посадский человек»29. Эту нарочитость тонко подметил Панаев: «Особенное внимание великосветских госпож и господ обращал на себя издатель “Сказаний русского народа” И.П. Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек себе на уме, хитро посматривал на все из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми им улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облекался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского». Впрочем, и в Петербурге провинциал из Тулы быстро сумел «пробраться в круг нужных людей»: «Через эту книгу [«Сказания русского народа». - ТВД Сахаров скоро сблизился со всеми литераторами и стал особенно ухаживать за журналистами»30.
Эта черта - назовем ее коммуникабельность, чтобы не сказать пронырливость - поражает в Сахарове. Может быть, благодаря ей сирота-попович и не бедствовал. В 1830 г. он выходит из духовного звания и поступает своекоштным студентом на Медицинский факультет Императорского Московского университета. Учиться «за свой кошт» означало необходимость платить за обучение и невозможность жить в казенном общежитии. И Сахаров снимает квартиру (не угол, не комнату) в Мещаниновом подворье31. Дом купцов Мещаниновых располагался рядом с нынешним ГУМом, так что на занятия в университет добираться было легко и удобно. Летом 1835 г, по окончании университета, Сахаров был направлен лекарем для прохождения практики в Московскую городскую больницу. А уже в феврале 1836 г. мы находим его в Петербурге занимающим штатную должность врача Почтового департамента Министерства внутренних дел. Ни лихорадки, ни чахотки, ни умирающих больных - приличная чиновничья должность в столице с неплохим жалованьем.
В 1836 г. Сахаров уже печатает первым изданием свои «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков», да сразу в трех книжках. Причем первая из них имеет самый притягивающий для публики подзаголовок - «Сказания русского народа о чернокнижии». Тираж был мгновенно раскуплен, и через несколько месяцев Сахаров выпускает второе издание. В 1838 г. он уже владелец собственной типографии, а такое обзаведение должно было стоить минимум несколько тысяч рублей (станок, типографский шрифт, наемный наборщик). В общем, вчерашний студент поразительно легко вписался в литературно-издательское коловращение столицы.
Мемуаристы отмечают еще одну особенность Сахарова: он умел ладить с людьми различного социального статуса, особенно если был заинтересован в установлении контакта с человеком. И.П. Срез- 118
невский вспоминал, как охотно общался Сахаров с «более образованными людьми из простого народа по поводу собирания памятников»32. Современники, вероятно, могли «считывать» информацию из намеков: образованные люди... из простого народа... обсуждают старые книги. Сахаров, похоже, подобрал ключик к раскольникам. Подтверждение находим в письмах Сахарова к А.М. Кубареву. В 1843 г. он пишет своему московскому корреспонденту: «Теперь попал я в библиотеку купца Кузьмина. У него все рукописи». А вскоре Сахаров сообщает: «У нас здесь закрыли часовню у Кузьмина, собирателя книг -ис ним исчезла еще библиотека на многие годы»33. Думается, речь здесь идет о закрытии старообрядческой Королевской молельни и развернувшемся в 1844-1945 гг. правительственном давлении на беспоповцев Петербурга.
Прекрасно продвигался он и по служебной лестнице. Какие-то намеки на идейное преследование Сахаров подчас оставляет. Так, он рассказывал своему знакомому, что за «Сказания русского народа» дело для него чуть не обернулось Соловками34. А за статью о Сильвестре Медведеве, пишет он А.М. Кубареву: «Меня было притащили ко Иисусу и отделываюсь тем, что пишу объяснения»35. Нам представляется, что эти известия либо придуманы самим Сахаровым либо же сильно им преувеличены. Дело в том, что человеку, причастному к сочинительству и издательскому делу, в царствование Николая I было почти неприлично «не пострадать». Какой же ты литератор, если даже рептильные Воейков, Булгарин и Греч за «пристрастные литературные рецензии», бывало, оказывались под арестом36?
Ну, ссылка на Кавказ или заключение в крепость - это, конечно, чересчур, но чтобы совсем не иметь трений с правительством - это как-то не солидно. Мы еще вернемся к вопросу о цензурных преследованиях, здесь же заметим лишь, что «Сказания русского народа» в 1836-1841 гг. выдержали три издания, если бы существовал хотя бы намек на Соловки, о переизданиях не могло быть и речи.
На самом деле, настоящую известность в научном мире, да и коммерческий успех, Сахарову принесли именно «Сказания русского народа». Это сочинение в отношении к нему читающей публики и научного сообщества прошло несколько этапов. При первом появлении сахаровских «Сказаний» успех был прочный и поразительный. Современник вспоминал: «Даже в юношеских кругах студентских явилось немало охотников не только прочесть, но и приобрести книги Сахарова; а между тем студентов, умевших отделять деньги на покупку книг, было тогда очень-очень мало»37. Сахаров в это время пользуется хорошей репутацией среди научного сообщества, его принимают в члены Общества истории и древностей российских.
Первый звоночек прозвенел в 1854 г, когда А.А. Григорьев подверг фольклорные издания Сахарова критическому разбору и установил, что в них попадаются тексты, уже многократно печатанные, 119
либо «деланные», то есть носящие следы литературной правки. Впоследствии, по мере формирования принципов научной фольклористики, тексты Сахарова не раз становились объектом критики со стороны известных ученых. В наши дни выдающийся исследователь предлагает прямо наложить мораторий на использование текстов из сборников Сахарова в научных работах, мотивируя тем, что если это действительно фольклорный текст, то его можно найти в «нормальных изданиях», а если текст содержится только у Сахарова, то это «наверняка фальсификат»38.
Попробуем внести некоторую ясность в систему обвинений, выдвигаемых против Сахарова на протяжении многих десятилетий.
Начиная с 1836 г. он принялся издавать фольклорные тексты, которые выходили отдельными частями, книгами и изданиями. В целом можно сказать, что в 1836-1837 гг. у Сахарова оказались готовы к печати три книги, которые содержали песни, пословицы, заговоры, обряды чародейства и колдовства, гадания, магии и т.п. Безусловно, тематика чернокнижия и колдовства обладала притягательной силой и пробуждала у публики огромный интерес. Возникал вполне закономерный вопрос - откуда такое богатство?
В предисловии сам издатель рассказывает читателям, как он искал фольклор русской народности по городам и весям: «... я поместил все то, что было собрано мною во время путешествия по губерниям Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской и Московской. В эти счастливые дни моей жизни, изучая русскую семейную жизнь, я внимательно вслушивался во все рассказы поселян, с тщательностью записывал все народные предания и поверья, со слов самих рассказчиков... За этою-то народностию ходил я по городам и селам, по домам и полям»39. Сахаров упрекает своих предшественников: «Всего легче окружить себя книгами и из них выбирать сведения о старой русской жизни, нежели таскаться по селениям, собирать поверья и обычаи, подвергаться на каждом шагу тысячам неприятностей»40. Этими обличениями Сахаров давал понять, что он-то как раз «таскался по селениям и подвергался неприятностям». Тем самым он закладывал миф о своих заслугах в деле собирания «сокровищ народности»: он представлял себя собирателем, который «пошел в народ».
Возникает закономерный вопрос - когда? Когда автор исходил пять губерний? Во время каникул, между экзаменами по патологии и хирургии? Или же еще раньше, отпрашиваясь у семинарского начальства? Это было абсолютно немыслимо.
Во-первых, собирательство фольклора было делом долгим. П.В. Киреевский, например, собирал народные песни более 20 лет, поддерживая переписку со многими корреспондентами, которых он привлек к сотрудничеству, при этом он обладал достаточным состоянием, чтобы вкладывать в свое хобби немалые деньги и не был обременен службой. Единственным, кого Киреевский нашел для того, чтобы в буквальном смысле «послать в народ», был П.И. Якушкин, который ради странствий по полям и весям бросил учебу в Московском университете. При этом Якушкин всегда воспринимался окружающими как «человек не от мира сего».
Сахаровские приемы издания фольклорных текстов проанализировали еще ученые XIX в. Так, А.Н. Пыпин уличил его в заимствовании из предшествующих фольклорных сборников41. Действительно, к 1830-м гг. уже были напечатаны фольклорные материалы в сборниках М.Д. Чулкова, Н.А. Львова, И.М. Снегирева, Кирши Данилова и других. Можно сказать, что Сахаров брал отовсюду, откуда мог, но при этом не делал указаний на источник заимствований. Вместо этого у него присутствуют ссылки на некую «рукопись купца Бельского», которая неведомо какими путями оказалась в его руках и которую никто никогда не видел. Ученые второй половины XIX в. раскрыли и характерные черты литературной обработки, которую применял Сахаров: грубый, сильный и здоровый фольклорный текст он «улучшал» искусственной слащавой чувствительностью и мнимой архаичностью. П.А. Бессонов, например, с ироничной издевкой писал, что все богатыри у Сахарова, вопреки киевской былинной традиции, оженились, жили в Киеве припеваючи, а потом состарились и преставились42.
Верхом научной «предприимчивости» Сахарова является колдовской заговор по превращению человека в волка. Текстуальное сравнение, проведенное А.Л. Топорковым, доказывает, что «фольклорный» текст был позаимствован Сахаровым из фантастической повести О.М. Сомова «Оборотень», напечатанной в 1829 г.43
В работах того же А.Л. Топоркова благодаря сравнению заговоров, которые Сахаров получал от своего тихвинского корреспондента Г.И. Парихина, с текстами, которые он публиковал в своих изданиях, выявлены принципы редактуры, которые применял Сахаров. Можно с уверенностью предположить, что и все остальные тексты подвергались аналогичной переработке. Среди прочего (удаление места, обстоятельств и источника записи, что в целом допускалось публикаторской практикой того времени) обращают на себя внимание два момента: из текстов Сахаров убирал все, что было связано с христианской религией, и удалял все кощунственные моменты44.
При этом второе совершенно понятно: издатель убирал текст с обещанием служить черту или редактировал заговор, в котором крест кладут под пятку. В этих случаях как раз могли возникнуть неприятности с Синодом или цензурой.
Но зачем ему понадобилось убирать из текстов все упоминания Христа, Богородицы, архангелов, церкви? Даже формулу «я, раб божий такой-то» Сахаров всюду заменяет на «я, раб такой-то». Согласимся, в русском языке абсолютно нормально воспринимается выражение «я, раб божий Иван», и абсолютно не соответствует внутреннему строю языка форма «я, раб Иван». А.Л. Топорков делает вывод, что, превращая полухристианские тексты в языческие, Сахаров тем самым уходил от возможных цензурных преследований. На наш взгляд, свои цензурные мытарства Сахаров сознательно преувеличивал, а придание текстам исключительно языческого облика имело своей целью намеренное «удревнение» фольклора, а значит - и подчеркивание научных заслуг собирателя.
Думается, сегодня мы можем совершенно спокойно воспринимать тот факт, что Сахаров в своих изданиях выдавал чужие материалы за свои, редактировал и приукрашивал фольклор и даже выдавал собственные тексты за произведения народного творчества. Он не нуждается ни в нашем приговоре, ни в оправдательном вердикте. Гораздо интереснее понять, почему он все это делал, и почему читающая публика с таким восторгом и увлечением приняла его издания?
Степень востребованности была действительно очень высока. В 1885 г, при переиздании, сообщалось, что купить сахаровские «Сказания» практически невозможно, а первый том (тот самый, с чернокнижием) даже выкрали из Императорской публичной библиотеки в Петербурге45. На наш взгляд, важнейшей заслугой Сахарова было то, что фольклорные материалы были впервые собраны воедино из старых и редких изданий, даже из рукописей. Фактически это было научно-популярное издание, но оно сделало фольклор доступным для читателя-неспециалиста. Кроме того, издания Сахарова оказались той самой «ложкой, которая дорога к обеду».
В 1830-е гг. в общественных умонастроениях начинает оформляться идея народности. Можно выделить целый пласт в культуре того времени, который создавался не дворянами. Они могли происходить из разных социальных слоев: М.П. Погодин и Н.Г. Устрялов вышли из крепостных, Н.А. Полевой - из купцов, И.П. Сахаров - из духовенства, И.П. Скобелев - из однодворцев. По социальному статусу они находились в коридоре между дворянством и крестьянством (даже если получали дворянское звание за службу), хранили в своем подсознании самоощущение «посадского человека», который не впитывал французский с молоком матери, и которому приходилось упорно бить лапками, чтобы запрыгнуть в социальный лифт.
Мы перечислили «писателей», но ведь были еще и «читатели», и читателей становилось все больше. На этот слой начинает ориентироваться газета «Северная пчела» и достигает небывалого тиража в 9 тыс. экземпляров; ее читают лавочники и канцеляристы, ее выписывают на Урале и на Дону46. Помимо талантливых фельетонов публику особенно привлекали очерки о русских самородках торгово-фабричного склада: о «русском Страдивари» скрипичном мастере Батове, о табачном фабриканте Жукове и других. Один из сотрудников «Северной пчелы» вспоминал об этих статьях: «Они делали фурор между читателями Гостиного двора... которые восклицали: «Ишь ты, “Пчелка”-то как славно, шельма, жужжит! Ан, 122
наш брат русак-то англичанина аль немца иного так себе за пояс-то затыкает!». И эти патриоты активно подписывались на «Пчелку»47.
Эти общественные настроения в политическом отношении имели ярко выраженный консервативный характер. Теория и практика уваровской доктрины воспринималась «посадскими людьми» как магистральная линия, но без «народности» они уже не могли принять «самодержавия и православия».
В этом отношении работа Сахарова была проявлением тенденции, общей для Европы и России. Первая треть XIX в. в Европе проходила под знаком романтизма и национализма. В Англии, Франции и, пожалуй, в Греции рождение национального импульса было связано с революциями, остальным странам приходилось искать свидетельства народного гения в эпосе, песнях и сказках. Фольклор стал восприниматься как живительный источник, к которому люди могут припасть в поисках «славного прошлого». Параллельно оформлялись два процесса: убеждение, что народное творчество драгоценно, и собирание этого драгоценного наследия.
В Германии братья Гримм начинают свою работу, в Финляндии врач Леннрот собирает песни «Калевалы», в Сербии Вук Караджич не только публикует произведения народного творчества, но и создает сербский литературный язык. Стремление обрести свой великий и могучий эпос было столь сильно, что в случае его отсутствия рождалось естественное желание восполнить этот пробел. К наиболее ярким примерам подобного фольклорного творчества относятся баллады Оссиана авторства Джеймса Макферсона, а также Кралед-ворская рукопись, сочиненная Вацлавом Ганкой48. Конечно, фольклорное сочинительство Ганки по художественному уровню далеко превосходило «редактуру» Сахарова, но это уже вопрос меры таланта, а не научной принципиальности. Представляется, что главный мотив Сахарова, когда он издавал и «подправлял» фольклор, лежал в той же плоскости. Главный - но не единственный.
Ему, безусловно, импонировала роль авторитета и знатока, ко- торый собрал и опубликовал самый обширный свод русского фольклора. Ведь не под какого-то университетского профессора, а под Сахарова был специально введен в 1851 г. курс палеографии в Императорском училище правоведения и в Александровском лицее. Сомнительно, правда, что будущей элите российской империи так уж необходима была палеография, но факт остается фактом - Сахаров стал преподавателем.
Не последнюю роль для него играли и материальные выгоды, которые были связаны с ролью собирателя и издателя русского фольклора. В «Русском архиве» приводится переписка 1841 г. начальника Сахарова, главноначальствующего Почтового департамента МВД князя А.Н. Голицына с Николаем I и графом С.С. Уваровым49. Голицын был тот самый могущественный вельможа, который в предшествующее царствование возглавлял Министерство духовных дел и народного просвещения, просуществовавшее неполных восемь лет. Он обратился напрямую к императору с просьбой наградить титулярного советника Сахарова орденом (что автоматически давало дворянство) и дополнительным жалованьем за «исторические изыскания русской народности». Подобные представления были исключительной прерогативой Министерства народного просвещения, и министр Уваров был уязвлен. В итоге Сахаров получил вместо ордена бриллиантовый перстень, а насчет прибавки жалованья министр вернул пас обратно главноначальствующему Почтового департамента. Уваров, аргументируя тем, что у Министерства народного просвещения нет денежных источников, просил Голицына обеспечить эту прибавку за счет доходов своего ведомства.
Некий драматический перелом произошел в жизни Сахарова в 1853 г. Об этом глухо пишет И.И. Срезневский: «Причиною были частию семейные обстоятельства, частию отношения к некоторым из людей, в кругу которых он работал». Спустя десять лет Сахаров скончается в своем имении в Валдайском уезде (значит, уже и поместье приобрел), по сообщению того же Срезневского, «вследствие разжижения мозга»50.
Косвенным подтверждением «катастрофы 1853 г.» служит резкое снижение творческой активности Сахарова: обычно из-под его пера выходило от 5 до 15 публикаций в год, а в период 1853-1863 гг. увидела свет лишь одна брошюра («Записка о русских гербах», 1856 г). Да и по службе все складывалось далеко не гладко. Мы не можем с достоверностью установить, что именно произошло, однако при изучении жизненного пути Сахарова взгляд неизбежно останавливается на неких мелочах, которым трудно найти истолкование. Каждому из этих пунктов в отдельности легко найти объяснение, но все вместе они наводят на некоторые размышления.
При многообразии описаний мужчин, с которыми Сахаров общался в жизни, мы не найдем в его воспоминаниях ни одной женщины. Напротив, мы встречаем лишь яростные филиппики в адрес 124
женщин, которым надобны только «болтовня, танцы, кокетство и рассеянье в жизни»51.
Нигде, никогда, ни у одного современника мы не встречаем упоминания женщины рядом с именем Сахарова.
С юности рядом с ним как будто присутствует невидимая рука, оказывающая помощь и покровительство (своекоштная учеба в университете, теплое место в Петербурге, собственная типография и т.п.).
Князь Александр Николаевич Голицын, под началом которого столь успешно служил Сахаров в Петербурге, был известен современникам свой склонностью к гомосексуализму52.
В 1837-1838 гг. Сахаров предоставил восемь статей для «Энциклопедического лексикона» Плюшара. Именно в эти два года редакторство издания осуществлял А.Ф. Шенин, служивший инспектором Павловского кадетского корпуса. Позже Шенин был «отставлен от службы и выслан из Петербурга за педерастию»53.
В привилегированных закрытых учебных заведениях гомосексуальные отношения были достаточно распространенным явлением, но особенной репутацией в этой связи пользовалось в Петербурге Императорское училище правоведения, где Сахаров преподавал курс палеографии54.
Медицинские диагнозы прошлого достаточно трудно перевести на современный язык, однако «разжижение мозга» в XIX в. очень часто было неким эвфемизмом для обозначения поздних стадий сифилиса.
Если наше предположение о гомосексуальной ориентации Сахарова верно, то этот факт тоже необходимо учитывать при изучении его жизненного пути. Это среди аристократического дворянства было возможно шутливо-ироничное отношение к подобным утехам, о чем свидетельствуют письма и эпиграммы Пушкина. У Сахарова же его происхождение и воспитание должны были формировать глубокое отвращение к Содому и Гоморре, а значит - ощущение стыда, греховности и болезненных комплексов.
Взглянем на портрет Сахарова, который был приложен к изданию «Сказаний» 1841 г. Расходы на художника и изготовление гравированной литографии не остановили Сахарова, хотя это, безусловно, удорожало печатание книги. Подчеркнутое сходство с Бонапартом нельзя считать случайным, а если бы Сахаров заложил руку за борт сюртука, то сходство уже перешло бы в пародию. Однако этот портрет означает, что Сахаров именно таким желал представить себя публике - «великим и одиноким», с жестким и проницательным взглядом, с упрямо сжатым ртом и нижней губой, демонстрирующей неуступчивость и самоуверенность. Подобный тип саморе-презентации вырабатывается, когда человека терзают комплексы и страсти. В сочинениях Сахарова это тоже проявлялось: в сложном смешении заносчивости, высокомерия и обидчивости в адрес своих предшественников и современников на ниве научных исследований.
* * *
Жизненный путь и научная судьба Ивана Петровича Сахарова отражают те духовные процессы, которые начались в русском обществе в 1820-е - 1830-е гг. Важную роль в «запуске» этих процессов сыграли два фактора: Отечественная война 1812 г. и «История государства Российского» Карамзина. Эти два феномена были «считаны» обществом как завет: «Оказывается, у меня есть Отечество!».
В процесс ментального «обретения отечества» втягивались и выходцы из недворянских слоев. Однако в отличие от разночинцев пореформенного времени, которые в массе своей усваивали революционно-демократическое мировоззрение, «посадские люди» 1830-х гг. стояли на консервативно-националистических позициях.
Список литературы Иван Петрович Сахаров: тульский "посадский человек" в российской науке
- Бердинских В.А. Уездные историки: Русская провинциальная историография. Москва, 2003
- Боярченков В.В. Историки-федералисты: Концепция местной истории в русской мысли 20-70-х годов XIX века. СанктПетербург, 2005
- Володина Т.А. Уваровская триада и учебники по русской истории // Вопросы истории. 2004. № 2. С. 117-129
- Володина Т.А. "Дилетанты" и "профессионалы": К вопросу о периодизации развития исторической науки в конце XVIII - первой трети XIX века // Отечественная история. 2003. № 4. С. 122-130.