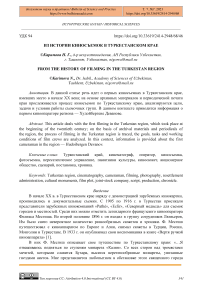Из истории киносъемок в Туркестанском крае
Автор: Каримова Нигора Ганиевна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 7 т.7, 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье речь идет о первых киносъемках в Туркестанском крае, имевших место в начале ХХ века; на основе архивных материалов и периодической печати края прослеживается процесс киносъемок по Туркестанскому краю, анализируются цели, задачи и условия работы съемочных групп. В данном контексте приводится информация о первом кинооператоре региона - Худойбергене Деванове.
Туркестанский край, кинематограф, оператор, киносъемка, фотосъемка, переселенческое управление, памятники культуры, киносюжет, акционерное общество, сценарий, постановка, хроника
Короткий адрес: https://sciup.org/14121032
IDR: 14121032 | УДК: 94 | DOI: 10.33619/2414-2948/68/46
Текст научной статьи Из истории киносъемок в Туркестанском крае
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 94
В начале ХХ в. в Туркестанском крае наряду с демонстрацией зарубежных кинокартин, производились и документальные съемки. С 1905 по 1916 г. в Туркестан приезжали представители зарубежных кинокомпаний «Pathé», «Eclir», «Северный медведь» для съемок городов и местностей. Среди них можно отметить легендарного французского кинооператора Феликса Месгиша. Во второй половине 1896 г. он входил в группу сотрудников Люмьеров, Им было снято невероятное количество разнообразных сюжетов и хроники. Ф. Месгиш путешествовал с киноаппаратом по Европе и Азии, снимал сюжеты в Турции, России, Монголии и Туркестане. В 1933 г. он опубликовал свои воспоминания в книге «Вертя ручкой киноаппарата» [1].
В них Ф. Месгиш описывает свое путешествие по Туркестанскому краю: «…Я отваживаюсь подняться по ступеням минарета «Калян». Со всех сторон над тремястами мечетей, которыми славится Бухара, высятся веретенообразные минареты, унизанные гнездами аистов. Мне представляется любопытном в обстановке этого священного города услышать призыв к молитве. В свете прекрасного солнечного заката я готовлюсь к панорамной съемке. На переднем плане я располагаю в объективе цитадель, по персидски «арк», большую мечеть «Балиа Хан» и «Башню смерти» откуда в древние времена сбрасывали преступников. В отдалении можно различить Медресе Мир Араб и Кукельдаш. Держась все время в стороне, я подстерегаю появление муэдзина. Звук шагов. Вот он. На минуту, удивившись моему присутствию, он тотчас-же перестает интересоваться мной…». Далее французский кинооператор рассказывает, как производил съемки в Самарканде и описывает различные эпизоды городской жизни, сцены из быта жителей древнего города. Эти отрывки дают возможность идентифицировать сюжеты Ф. Месгиша с кадрами документальных киносъемок этого периода, которые хранятся в зарубежных фильмофондах.
Как сообщила газета «Туркестанские ведомости», командированному французским кинематографическим обществом «Eclir» в туркестанский край — киноэкспедитору Рене Моро была разрешена поездка по Средней Азии для производства кинематографических снимков: «и таким образом наша жизнь будет запечатлена на кинематографической ленте, и заграничная публика воочию познакомится со столицей Туркестанского края» [2].
В первые десятилетия ХХ в. наблюдался пристальный и всесторонний геополитический интерес России к Туркестану как к одной из своих колониальных окраин, требующей закрепления российского внедрения с помощью переселенческих проектов. Российское правительство использует для этого новые для того времени технические средства – фотографию и кинематограф, способные привлечь внимание к этому краю российских граждан для их последующего переселения. В этом контексте следует рассматривать и инициативу Переселенческого Управления железных дорог России, заказавшего Акционерному обществу А. Ханжонкова и К° выполнение «программы кинематографических снимков» в Туркестане. В 1913 г. оператор Ф. Вериго-Даровский снял фильм «Лепрозории для прокаженных в Туркестане» по заказу фирмы «Патэ». Он еще не раз посещал Туркестанский край в качестве оператора, работая над фильмами «Минарет смерти» (1925), «Последний бек» (1930) [3].
Материал и методы исследования
В конце XIX — начале ХХ века геополитический интерес России к Туркестанскому краю поддерживался целым рядом крупных предприятий тактико-стратегической, экономической, социально-культурной, пропагандистской направленности, с целью укрепления южных границ империи, расширения торговых связей и налаживания контактов с приграничными государствами. Особое внимание уделялось переселенческим проблемам, решение которых зависело от принятия и практической реализации комплекса мер, в том числе осуществляемых с помощью вновь обретенных к тому времени технических и художественных средств — фотографии, кинематографа, способных не только удивить, восхитить своей новизной, но и служить определенной идее. Ко времени пришлась и инициатива «Переселенческого Управления железных дорог России», поставившего перед Акционерным обществом А. Ханжонкова и К° задачу выполнения «программы кинематографических снимков» в Туркестане, демонстрирующих привлекательность для будущих российских переселенцев местной жизни, природы, условий для развития сельского хозяйства, промышленности и торговли [4].
Общество «Ханжонкова и К°» в письме от 1 июня 1914 г. обращается к Командующему войсками Туркестанского военного округа и Туркестанскому генерал-губернатору с просьбой разрешить съемки с гарантией со стороны исполнителей, что картина будет «выпускаться в продажу в целях популяризации» только после предварительного просмотра и одобрения соответствующей комиссией. А потому вопрос, связанный с возможностью разглашения государственных тайн и секретов, совершенно отпадает.
Такого рода процедура подчеркивает тот факт, что царская Россия и представители российских военных ведомств ревностно защищали свои интересы в Туркестане от иностранных разведслужб. Запрещалась съемка стратегических объектов, к коим были отнесены мосты и акведуки, места скопления пресной воды. И это было весьма предусмотрительно с учетом общеполитической ситуации в ходе Первой мировой войны.
Охранялись не только отдельные объекты и сооружения, но и стратегически важные, запрещенные для въезда иностранцев города Туркестанского края — Кушка, Термез, Керки и др.
Об истинных целях кинематографии, как в коммерческом, так и в политикопропагандистском отношениях, можно судить по содержанию письма Начальника главного штаба по Азиатской части от 14 июня 1914 г. за №1244, адресованного генерал-губернатору Туркестана.
«Для ознакомления широких кругов публики с нашими азиатскими владениями акционерное общество «Ханжонков и К°» предполагает в начале лета текущего года произвести для кинематографа, согласно прилагаемой при сем программе, составленной Переселенческим управлением, ряд снимков, рисующих природу Туркестана, быт и занятия местного населения, условия колонизации этой окраины, виды среднеазиатских городов и селений, различные государственные учреждения, торгово-промышленные предприятия и проч. Признавая распространение среди населения, особенно же среди учащейся молодежи и в войсках, возможно полных и наглядных сведений о наших окраинах и положении на них русского дела весьма желательным, полагая, что кинематографические снимки могут принести в этом отношении несомненную пользу, Главноуправляющий Землеустройством и Земледелием просит Военного министра сообщить, не признается ли возможным удовлетворить ходатайство названной фирмы о выполнении упомянутых снимков в полосе отчуждения Ташкентской железной дороги» [5].
После длительных переписок компания А. Ханжонкова получила разрешение на фото и киносъемку, которая производилась в соответствии с заранее составленной и охватившей Сырдарьинскую, Ферганскую, Самаркандскую и Закаспийскую области «Программой для кинематографических снимков в Туркестане» (за исключением, как упомянуто выше, отдельных городов и стратегических объектов — мостов, водопроводных сооружений и т. д.) [6].
О том, что здесь решались острейшие для своего времени пропагандистские задачи, можно судить по описанию плана съемок одного из участков Ташкентской железной дороги при въезде в пределы Сырдарьинской области.
«Необходимо снять общий вид лишенной искусственного орошения унылой пустыни с кое-где бродящими по ней верблюдами, чтобы в дальнейших снимках показать, как цветет та же пустыня, когда на нее пущена вода. Тут же следует снять железнодорожные станции … и находящиеся при станциях постройки киргизов» [7].
Результаты и обсуждение
Своего рода сценарий с подробным перечнем не только селений, пунктов, городов, где предполагалась съемка, но и конкретных улиц, зданий, эта программа представляет собой интереснейший документ, где хранится информация о крупных памятниках архитектуры и других объектах материальной культуры, обладающих историко-культурной ценностью.
Например, наряду с известным архитектурным комплексом Ахмада Яссави, упоминается и некий медный сосуд для воды — на самом деле здесь речь идет о крупном бронзовом котле, который был создан по приказу Амира Темура в 1397 году [8].
Интересны рекомендации по съемкам в крупных исторических городах старых «туземных» и новых «европейских» районов. Предлагалось также запечатлевать на пленке коренных жителей, представителей различных этнических групп (сартов, киргизов, таджиков, бухарцев, бухарских евреев и проч.), снятых на фоне традиционных жилищ, мечетей, медресе, базаров, чайхан [9].
Рекомендовано не оставлять без внимания построенные в колониальное время сооружения — каналы, поселки, жилые помещения, здания учреждений, а также жизнь российских переселенцев со всей окружающей их инфраструктурой – школами, церквями, трактирами [10].
Это факт говорит не только об исследовательской, творческой, просветительской, познавательной, этнографической цели данного документального кинопроекта, но и о его установочной, агитационной направленности, чему доказательство – строго прочерченный план съемок, строгий отбор фона, действующих объектов и персонажей. Встречались и конфузы. К примеру, упоминая мраморный лавх для Корана Усмана во дворе Медресе Биби-ханум в Самарканде — авторы называют его «подставкой для короны». Не обошлось также без инициации заказчиков и исполнителей в пользу демонстрации политической, экономической, культурной значимости российского завоевания и проникновения в регион европейской цивилизации, освоения здешних земель переселенцами и пополнения гражданских ресурсов за счет россиян.
Примечательны в этом отношении те части Программы, где речь идет о съемках в Голодной степи:
«В районе станции Голодная степь надо снять канал Императора Николая I, сооруженный по инициативе и на средства Великого Князя Николая Константиновича, орошаемые им земли и русские поселки, … общий вид, дома крестьян, хлопковые поля, посевы хлеба; в поселке Спасском надо, кроме того, снять церковь, сооруженную на средства, отпущенные переселенцам Переселенческим Управлением, школу, переселенческую больницу. Здесь же необходимо снять Голодностепскую хлопковую опытную станцию со всем хозяйством, инсценировать все стадии работы — от подготовки почвы и предпоследнего полива до уборки урожая, а также существующее здесь показательное крестьянское хозяйство … У станции Голодной степи и Сыр-Дарьинской надо инсценировать все стадии полевых работ и поливы на хлопковых плантациях, показав различие работ туземцев и русских крестьян, более широко пользующихся сложными сельскохозяйственными орудиями» [11].
Слово «инсценировать» в данном случае предполагает, вероятно, очередность, разбивку материла на части, последовательность съемок, придание кадрам зримой конкретики с использованием художественных прием, в том числе с целью смягчить, облагородить, гуманизировать великодержавную конъюнктуру заботами социального свойства, но, отнюдь, не политическими. Однако в целом сам пафос документа как стремления показать традиционный быт и формы хозяйствования на фоне технического переоснащения производственных сфер с помощью российских специалистов, скрыть было трудно [12].
Если на первых порах киносъемочной деятельностью занимались приезжие творческие группы или организованные на местах профессиональные общества, состоящие из россиян, то постепенно в этот процесс вливаются и коренные жители, первоначально на любительском уровне, затем на уровне профессиональном. В числе таковых Худойберген Деванов (1879–1938) — известный в будущем кинематографист, первый кинооператор Центральной Азии, который, в отличие от своих коллег из общества Ханжонкова, больше обращал внимание на повседневную жизнь, трудовые будни, заботы и радости простых людей.
Уроженец Хорезма, он приобщился к фотоделу, проявив не только талант, но и явный интерес к этому виду творчества благодаря счастливой встрече с Вильгельмом Пеннером — старейшиной менонитской общины немцев, проживавшей в поселке Ак-Мечеть, неподалеку от Хивы. Многое в судьбе Х. Деванова как первого профессионального кинооператора, кино корреспондента, общественного деятеля решила его поездка в конце 1908 года в составе специальной делегации в Санкт-Петербург. Ознакомившись с последними научными и техническими разработками в области кино, Х. Деванов принял участие в закупке технических новинок, в том числе киноаппаратуры, изучил опыт работы фото и киностудий, приобрел граммофон, кинокамеру, стереоскоп и другое необходимое оборудование, что и положило начало работе в 1908 году хивинской кино и фото лаборатории.
Заключение
В своем киносюжете под названием «Халқ сайиллари» («Народные гуляния») Х. Деванов запечатлел праздничное мероприятие с колоритными фигурами артистов, канатоходцев и простых обывателей, с собачьими, бараньими и петушиными боями. Его привлекла традиционная одежда представителей различных социальных слоев и этносов, проживающих в Хорезме: узбеков, туркмен, каракалпаков, киргизов, персов, таджиков, русских, татар. Дальнейшие работы этого мастера, вплоть до череды политических репрессий 1937 года, которые его тоже непосредственно коснулись, составили достопримечательности региона, архитектурные ансамбли, народные промыслы, множество хроникальных сюжетов этнокультурного характера, представляющие собой уникальные документы, в которых отразились время, люди, общество и его приоритеты.
Список литературы Из истории киносъемок в Туркестанском крае
- Mesguich F. Tours de manivelle, souvenirs d'un chasseur d'images. B. Grasset, 1933.
- Туркестанские епархиальные ведомости. Г. 7. 1912. №6.
- Каримова Н. Г. Игровой кинематограф Узбекистана. 2016. С. 46-48.
- Каримова Н. Г. Документальная хроника первых кинематографов Бухары // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2016. №3. С. 176-184.
- Ханжонков А., Вишневский В., Росоловская В. Первые годы русской кинематографии. М.: Юрайт, 2020. 182 с.
- Каримова Н. Г. Кинематограф Узбекистана: истоки. Ташкент, 2012. С. 22-26.
- ЦГА РУз. ф. И-3, оп. 1, ед. хр. д. 758, л. 156.
- Амир Темур жах,он тарихида. Ташкент-Париж, 1996.
- ЦГА РУз. ф. И-3, оп. 1, ед. хр. д. 758. л. 154.
- ЦГА РУз. ф. Р-34, оп.1, ед. хр. д. 604. л. 143.
- ЦГА РУз. Ф.10. оп. 13. д. 84. л. 15-16.
- Каримова Н. Процесс адаптации новых форм искусства в мусульманское общество Туркестана в начале XX века (на материале кинематографа) // Ислам и культура Центральной Азии. Ташкент, 2008. С. 125-136.