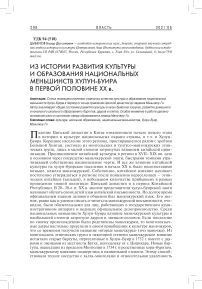Из истории развития культуры и образования национальных меньшинств Хулун-Буира в первой половине XX в
Автор: Цыбенов Базар Догсонович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению отдельных аспектов культуры и образования национальных меньшинств Хулун-Буира в период от конца правления Цинской династии до падения Маньчжоу-Го. Автор анализирует общее состояние развития культуры в хулун-буирских хошунах, развитие домашнего и начального школьного образования у баргутов, дауров и олетов. Особое внимание в работе уделено основанию школ и состоянию сферы образования в период Маньчжоу-Го.
Культура, школьное образование, национальные меньшинства, хулун-буир, маньчжоу-го
Короткий адрес: https://sciup.org/170191595
IDR: 170191595 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v29i6.8739
Текст научной статьи Из истории развития культуры и образования национальных меньшинств Хулун-Буира в первой половине XX в
Падение Цинской династии в Китае ознаменовало начало нового этапа в истории и культуре национальных окраин страны, в т.ч. и Хулун-Буира. Коренное население этого региона, простиравшегося рядом с хребтом Большой Хинган, состояло из монгольских и тунгусо-маньчжурских этнических групп, лишь в малой степени затронутых влиянием китайской цивилизации. Проникновение китайской культуры в регион в XVII–XIX вв. шло в основном через посредство маньчжурской знати, быстрыми темпами утрачивавшей собственные национальные черты. И все же влияние китайской культуры на хулун-буирское население в начале XX в. было несопоставимо меньше, нежели маньчжурской. Собственно, китайское влияние начинает постепенно утверждаться в регионе после появления переселенцев – этнических китайцев (ханьцев), в небольшом количестве прибывших в рамках проведения «новой политики» Цинской династии и в период Китайской Республики. В 20–30-е гг. XX в. многие представители хулун-буирской знати начинают обучать своих детей азам китайской письменности. Но долгое время официальным языком делового общения был маньчжурский язык. Его знание, равно как и умение писать и читать на маньчжурской письменности, очевидно, были обязательными для лиц, работающих в государственном административном аппарате и ведущих официальное делопроизводство. Среди национальных меньшинств Хулун-Буира влияние маньчжурской культуры в наибольшей степени затронуло дауров и эвенков-солонов. Если последние по своему происхождению были родственны маньчжурам, то монголоязычные дауры настолько преуспели в своем приобщении к культуре маньчжуров, что со временем получили название «вторые маньчжуры» (ичэ маньчжа). Из монгольских этнических групп в некоторой степени маньчжурское влияние испытали старые баргуты, переселенные в Хулун-Буир в 1732 г. вместе с даурами и эвенками из местности Бутха, неподалеку от г. Цицикара. Новые бар-гуты, вышедшие из пределов Монголии в 1734 г. и родственные хори-бурятам, маньчжурскому влиянию подверглись в наименьшей степени. Этому способствовало тесное соседство с халха-монголами и относительная удаленность баргутских кочевий от административного центра – г. Хайлара. Говоря о культурном влиянии маньчжуров на население Хулун-Буира, необходимо помнить, что с крахом Цинской империи оно не закончилось, а в той или иной степени продолжалось вплоть до 1945 г., до падения марионеточного государственного образования Маньчжоу-Го.
Основа традиционной культуры баргутов, олетов и переселившихся в 20-е гг. XX в. шэнэхэнских бурят была и остается общемонгольской. Имеются локальные культурно-языковые различия, не влияющие на основные этнокультурные параметры принадлежности указанных групп к монгольской цивилизации. Важную роль в культурной жизни монгольского населения Хулун-Буира играла письменность. Представители знати и интеллигенция, наряду с маньчжурским письмом, прекрасно владели и своей традиционной письменностью, писали художественные произведения и научные труды. Знание монгольской письменности позволяло грамотным людям существенно расширить свой кругозор, ознакомиться с богатым письменным наследием общемонгольской культуры. В культурной жизни новых баргутов, олетов и шэнэхэнских бурят большую роль играл буддизм. Буддийские монастыри Хулун-Буира тесно взаимодействовали с религиозными центрами, расположенными в Халха-Монголии и Внутренней Монголии. Регулярно проводились различные мероприятия (молебны, религиозные праздники), на которые приезжали известные ламы из всего монгольского мира. Одним из крупнейших буддийских монастырей не только Хулун-Буира, но и всего Северо-Восточного Китая был Ганчжур-сумэ, построенный на территории Восточного хошуна Новой Барги. Религиозные мероприятия, проводимые монастырем, со временем были дополнены традиционными играми монгольских народов (борьба, конные скачки, стрельба из лука) и торговыми операциями, переросшими в широко известную в регионе и за его пределами ярмарку при Ганчжур-сумэ. Эта ярмарка сыграла большую роль в развитии приграничных российско-китайских торгово-экономических отношений и была популярна вплоть до 30-х гг. XX в., т.е. до захвата Хулун-Буира японскими войсками [Миягашева 2017: 70]. Часть населения Хулун-Буира (старые баргуты, дауры, эвенки-солоны, эвенки-орочоны) оставались приверженцами шаманизма, исполняли различные шаманские обряды. Многие аспекты духовной культуры (устное народное творчество, традиционная медицина) этих этнических групп были пронизаны шаманизмом, в определенной степени «законсервировавшим» ряд самобытных черт, сформировавшихся в результате многовекового межкультурного взаимодействия. С конца XIX – начала XX в. в регионе усилилось российское (русское) влияние, связанное со строительством КВЖД и переселением русского населения Восточного Забайкалья в Трехречье – район на севере Хулун-Буира. Русские купцы и торговцы, обосновавшись в Хайларе, помимо торговли, занимались и культурноспортивными мероприятиями. В частности, были широко известны конные скачки, устраиваемые ими. О прочных позициях русской культуры в первой четверти XX в. свидетельствуют многочисленные экспонаты в городском музее Хайлара, ранее принадлежавшие представителям российской интеллигенции и торгово-промышленных кругов. Многие русские заимствования, в основном сельскохозяйственные и технические термины, вошли в язык национальных меньшинств Хулун-Буира. В целом, российская культура вызывала неподдельный интерес хулун-буирской элиты. Так, в 1916 г. даурский ученый и поэт Чин Тунпу попытался создать алфавит на основе кириллицы. Другой даурский деятель Мэрсэ в 1920 г. предложил другой вариант письменности, на основе латиницы. О серьезности намерений даурских просветителей свидетельствует использование обоих алфавитов в школьном обучении. Эксперимент был пре- рван китайскими милитаристами, захватившими власть в Хулун-Буире [Курас, Цыбенов 2018: 369].
Как показывают факты, в авангарде научно-культурной жизни Хулун-Буира находилась передовая даурская интеллигенция. Научные труды даурских ученых по сей день остаются одними из основополагающих источников по Новой и Новейшей истории даурского народа, истории Хулун-Буира и провинции Хэйлунцзян КНР.
Появление высокообразованной интеллигенции среди дауров и других национальных меньшинств Хулун-Буира было напрямую связано с плодотворной деятельностью местных школ. Многие школы, основанные в конце XIX – начале XX в., не относились к разряду официальных и именовались домашними школами. Например, в 1890-х гг. главой баргутов Жамсарандоржи была основана домашняя школа в местности Хайрын-Добо (др. назв. Добо-Дэрису). В ней обучались около 10 детей; работали 3 преподавателя (монгол, даур и китаец), преподававшие, соответственно, монгольскую и маньчжурскую письменность, а также китайский язык. Из истории этой школы известно, что в 1910-х гг. она была переведена в местность Зуун-Шара-Нуга (др. назв. Зуун-Сумэ) [Bayan 2010: 439]. Широко практиковалось приглашение домашних учителей, занимавшихся в основном обучением детей состоятельных людей (чиновников, богатых скотоводов, торговцев). Свою лепту в развитие школьного образования вносили и местные госслужащие. Писарь Жалфунга, олет по национальности, много лет проработавший в администрации хулун-буирского амбаня, основал школу в местности Имин. Она располагалась в обычной юрте. Обучение в ней не отличалось от преподавания в баргутских школах. Жалфунга обучал немногочисленных учеников маньчжурской и монгольской письменности [Yongуorjab 2008: 46]. Помимо домашних школ, в районах Хулун-Буира, в Хайларе функционировала официальная школа монгольских хошунов. Ее деятельность, как и работа других школ, была приостановлена из-за вторжения в Хулун-Буир харчинского отряда Бабужава в 1917 г. [Men Ji Dung 1989: 200-201]. В следующем, 1918 г. школьное образование Хулун-Буира ожидали большие перемены, связанные с активностью даурских деятелей. Во-первых, Цэнд-гун основал в родном селении Мэхэрт домашнюю школу и пригласил для работы в ней бурятских и русских преподавателей. Одним из них была Софья Сахьянова, сестра известной бурятской революционерки Марии Сахьяновой. Вместе с ней начали работать русская учительница Лена (фамилия не сохранилась. – Авт .) и бурят Будадари [Atwood 2002: 144]. Во-вторых, даурские деятели Мэрсэ и Фуминтай открыли в Хайларе начальную школу монгольских хошу-нов Хулун-Буира. Со временем школа обрела более высокий статус средней школы. В ней обучалось более 100 учеников – представителей национальных меньшинств Хулун-Буира. Основное внимание в преподавании уделялось изучению китайского языка, в то же время ученики обучались и монгольской письменности. Для многих учеников получение образования в местных школах было начальным этапом их карьеры. Они продолжали обучение в средних учебных заведениях Цицикара, затем поступали в высшие учебные заведения в Бэйпине (офиц. назв. Пекина в 1929–1949 гг. – Авт .) и других крупных городах Китая. Некоторые студенты обучались в Японии, СССР и МНР. Хулун-буирское общество, в частности даурская элита, оказывало финансовую помощь талантливой молодежи – выходцам из бедных семей. В 1929 г. по инициативе Мэрсэ было основано педагогическое училище монгольских хошунов Северо-Восточного края, ставшее кузницей кадров для Хулун-Буира [Men Ji Dung 1989: 203].
Новый этап в развитии школьного образования Хулун-Буира начался с оккупации Северо-Восточного Китая японскими войсками и создания государственного образования Маньчжоу-Го. На территории региона была образована провинция Северный Хинган. На основе истории становления отдельных школ можно реконструировать события этого периода. Так, в 1931 г. глава новых баргутов Багабади основал школу в местности Шандугийн-Добо Западного хошуна Новой Барги. Она располагалась в трех юртах, в одной из которых размещались два японца с радиостанцией. В 1933–1934 гг. в рамках политики развития монгольской культуры японцы собрали в этой школе около 40 учеников – детей богатых скотоводов. Программа школы была сложной, включала в себя обучение четырем языкам: монгольскому, китайскому, японскому и маньчжурскому [Bayan 2010: 441]. Заметим, что преподавание четырех языков практиковалось и в других школах, в частности в ветеринарной школе г. Хайлара [Öljei 2013: 1]. Начиная с 1936 г. в школу стали принимать детей простых скотоводов. Обучение в этот период было сведено к трем дисциплинам: монгольской и маньчжурской письменности и математике [Bayan 2010: 441]. О развитии школьного образования в Солонском хошуне свидетельствует строительство деревянной стационарной школы в 1936 г. в местности Марса. После пожара в 1937 г., уничтожившего школьное здание, из красного кирпича была построена новая школа в местности Билютиз. В школе имелись шесть классов, в которых обучались более 70 учеников. Основную массу учащихся составляли дети олетов и эвенков-солонов. Обучение велось на двух языках: монгольском и японском. Ко времени создания Маньчжуо-Го среди олетов Хулун-Буира имелось достаточное число образованных людей, поэтому они были привлечены к работе в новой региональной администрации [Yongуorjab 2008: 50-51]. В целом, создается впечатление, что японские власти уделяли большое внимание образованию местного населения провинции Северный Хинган. В 1935 г. была основана Хинганская средняя школа, в которой до 1945 г. включительно прошли обучение более 1 тыс. чел.
По данным на апрель 1941 г., в Западном хошуне Новой Барги насчитывалось 1 554 ребенка школьного возраста, из них обучались в школах 241 чел.; из 942 детей школьного возраста в Восточном хошуне Новой Барги школу посещали 166 чел.; в хошуне Старая Барга проживали 795 детей школьного возраста, из которых 97 чел. проходили обучение в школах. С 1941 г. руководство провинции Северный Хинган претворяло в жизнь пятилетний план развития школьного образования. Было выделено серьезное финансирование, направленное на основание новых начальных школ в четырех монгольских хошунах провинции Северный Хинган. Планировалось также укрупнение уже действующих школ, проведение мероприятий по усовершенствованию профессиональной подготовки учителей, материального оснащения школ. Пятилетний план развития школьного образования с одобрением был встречен местным населением. Некоторые образованные и состоятельные люди стали основывать начальные школы на свои средства. Например, в апреле 1942 г. чиновник Фушэбу из хошуна Старая Барга создал в местности Хужирт начальную школу; в 1942 г. госслужащий Бат из Западного хошуна Новой Барги также открыл начальную школу. Японцы, по долгу службы пребывавшие в провинции Северный Хинган, также стремились оказать посильную помощь в основании и деятельности школ. В этот период некоторые представители хулун-буирской молодежи обучались в учебных заведениях Японии, в т.ч. историк Ж. Улзий, прошедший обучение в 1938–1941 гг. в Токийском университете иностранных языков [Öljei 2013: 1]; геолог Хада, трижды повышавший свою квалификацию в японских вузах [YongYorjab 2008: 47].
Следует также отметить, что в годы Маньчжоу-Го в Солонском хошуне,
Восточном хошуне Новой Барги и хошуне Старая Барга появились женские школы. Помимо школьной программы, девушки обучались работе на швейных машинах, шитью зимней шерстяной одежды [Мягмарсамбуу 2017: 182183]. Прообраз женских школ появился в Хулун-Буире еще в 1920-х гг., когда в даурском селении Мэхэрт в домашних условиях стали проходить обучение девушки из знатных семей. В тот период передовая молодежь национальных меньшинств региона находилась под сильным влиянием событий в СССР и Монголии. Известно, что в 1923 г. ЦК МНРП создал специальный подотдел по работе среди женщин. И они стали вовлекаться в культурно-просветительские и общественно-политические мероприятия, происходившие в Монголии [Цыпилова 2012: 181]. Молодежь Хулун-Буира также осознавала необходимость женской эмансипации. Примерно в 1925 г. пять даурских девушек (Хай Юри, Гуруй, Субад, Саран и Ринчин) тайно покинули Мэхэрт и направились на учебу в Верхнеудинск [Базаров 2002: 47]. По меркам того времени, учитывая строгие патриархальные устои даурского общества, этот осознанный и смелый побег девушек вызвал большой общественный резонанс. Позже они учились в Москве в КУТВе, работали в МНР. Население монгольских хошунов полностью поддерживало идею основания женских школ, оказывало посильную финансовую и материальную помощь. Например, в октябре 1941 г. скотовод Цэрэндаш из хошуна Старая Барга добровольно внес 10 тыс. юаней на строительство женской школы [Мягмарсамбуу 2017: 183-184].
Культура национальных меньшинств Хулун-Буира в первой половине XX в. претерпела достаточно сильные изменения, связанные с иноязычным (китайским, русским, японским) культурным влиянием. В этот период, особенно в годы правления Маньчжоу-Го, стало более доступным школьное образование, активно функционировали домашние и официальные начальные школы; увеличивалось число образованных людей, в т.ч. проходивших обучение за рубежом.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ, № 20-09-00344 «Духовная культура национальных меньшинств Хулун-Буира: письменные источники и современная историография проблемы». Номер госрегистрации (РосРИД): АААА-А20-120052290031-7.
Список литературы Из истории развития культуры и образования национальных меньшинств Хулун-Буира в первой половине XX в
- Базаров Б. В. 2002. Неизвестное из истории панмонголизма. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 67 с.
- Курас Л.В., Цыбенов Б.Д. 2018. Культура и образование дауров в XIX - начале XX века. - Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск: Изд-во БГУ. С. 362-370.
- Миягашева С.Б. 2017. К истории буддийских монастырей баргутов Хулун-Буира. - Культура Центральной Азии: письменные источники. № 10. С. 62-81.
- Мягмарсамбуу Г. 2017. Бус нутаг, Монголын тɣɣхэн дэх Барга. Улс төрийн тɣɣх (1900-1960 он) [Регион Барга в истории Монголии. Политическая история (1900-1960 гг.)]. Улаанбаатар: "Соембо принтинг" ХХК. 337 с.
- Цыпилова С.С. 2012. Конституционные права женщин в социалистической и современной Монголии. - Гуманитарный вектор. № 2(30). С. 179-185.
- Atwood C.P. 2002. Young Mongols and Vigilants in Inner Mongolia's Interregnum Decades, 1911-1931. Leiden; Boston; Köln: Brill. 1168 p.
- Bayan Y. 2010. Nigedüger baүa surүaүuli-yin tobči irelte [Краткая история начальной школы № 1]. - Šine Barүu baraүun qošiүun-u soyol teüke. 2. [История и культура Западного хошуна Новой Барги. 2.] Tüngliao: Diyančeng keblel. P. 439-448.
- Men Ji Dung 1989. Daүur ündüsüten-ü tobči teüke [Краткая история даурского народа]. Kökeqota: Öbör Mongүol-un arad-un keblel-ün qoriү-a. 300 p.
- Öljei J. 2013. Barүu mongүol-un teüke [История барга-монголов]. Külünbuyir. 415 p.
- Yongүorjab. 2008. Külün Buyir ӧgeled-ün soyol surүan kümüjil-ün tobči temdeglel [Заметки о развитии культуры и образования олетов Хулун-Буира]. - Külün Buyir ӧgeled-ün soyol teüke-yin material [Материалы по истории и культуре олетов Хулун-Буира]. Tüngliao: Diyančeng keblel. P. 45-65.