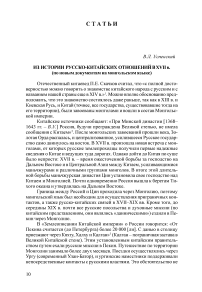Из истории русско-китайских отношений в XVII в.: (по новым документам на монгольском языке)
Автор: Успенский Владимир Леонидович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 33, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые проанализированы два уникальных документа на монгольском языке, связанные с историей русско-китайских отношений в XVII в. Это – императорские «указы» русскому царю, данные в 1655 и 1670 гг., факсимильное издание которых опубликовано в КНР в 2007 г. Особое внимание уделено правильному прочтению и точному переводу документов. «Указ» от 1670 г. был известен только в старинном русском «списке», и обнаружение его оригинала на монгольском языке позволяет более точно понять политику империи Цин в отношении России. Делается вывод о том, что эти документы на монгольском языке представляют ценность для изучения отношений между Россией и Китаем в XVII в.
Россия, китай, московское царство, империя цин, русско-китайские отношения, сибирь, маньчжурия
Короткий адрес: https://sciup.org/14913867
IDR: 14913867
Текст научной статьи Из истории русско-китайских отношений в XVII в.: (по новым документам на монгольском языке)
Отечественный китаевед П.Е. Скачков считал, что «с полной достоверностью можно говорить о знакомстве китайского народа с русским и с названием нашей страны еще в XIV в.»1. Можно вполне обоснованно предположить, что это знакомство состоялось даже раньше, так как в XIII в. и Киевская Русь, и Китай (точнее, все государства, существовавшие тогда на его территории), были завоеваны монголами и вошли в состав Монгольской империи.
Китайские источники сообщают: «При Минской династии [1368‒ 1643 гг. ‒ B.У. ] Россия, будучи преграждена Великой степью, не имела сообщения с Китаем»2. После монгольских завоеваний прошли века, Золотая Орда распалась, и централизованное, усилившееся Русское государство само двинулось на восток. B XVII в. произошла новая встреча с монголами, от которых русские землепроходцы получили первые надежные сведения о Китае и ведущих туда дорогах. Однако дойти до Китая по суше было непросто: XVII в. ‒ время ожесточенной борьбы за господство на Дальнем Востоке и в Центральной Азии между Китаем, усиливающимися маньчжурами и различными группами монголов. B итоге этой длительной борьбы маньчжурская династия Цин установила свое господство над Китаем и Монголией. Почти одновременно Россия вышла к берегам Тихого океана и утвердилась на Дальнем Востоке.
Граница между Россий и Цин проходила через Монголию, поэтому монгольский язык был необходим для осуществления приграничных контактов, а также русско-китайских связей в XVII‒XIX вв. Кроме того, до середины XIX в. почти все русские посольства и духовные миссии (по китайским представлениям, они являлись «данническими») ездили в Пекин через Монголию.
B «Землеописании Китайской империи» о России говорится: «От Пекина считается (до Петербурга) более 20 000 [ли]. С данью в столицу приезжают через Кяхту, Халху и Калган»3 (Калган ‒ пограничная застава в Великой Китайской стене). Этим установленным китайским правительством путем ехали русские миссии в Пекин. Путешествие по территории Монголии занимало более двух месяцев. Поездки осуществлялись через Ургу (современный Улан-Батор), и ургинские наместники поддерживали непосредственные контакты с русскими властями. Это обстоятельство не в последнюю очередь способствовало возрастанию роли Урги, ее превращению в столичный город.
flзыковая политика маньчжурских правителей была активной. Сами маньчжуры заимствовали алфавит у монголов в начале XVII в., они также успешно освоили китайский язык, который вскоре стал для них родным. Маньчжурский язык широко использовался в деловой и официальной переписке, в том числе для переписки с комендантами пограничных крепостей (острогов), иркутским генерал-губернатором, кяхтинским градоначальником и другими русскими должностными лицами. Поэтому документы на маньчжурском и монгольском языках имеют важное значение для изучения истории русско-китайских отношений. Даже титул «богдыхан», который на протяжении веков являлся в русском языке стандартным титулом китайского императора, является монгольским словом ( монг. bo γ da qa γ gan «высочайший правитель»).
B XVII в. русско-китайские переговоры осложнялись тем обстоятельством, что в России не было людей, владевших китайским или маньчжурским языками ‒ государственными языками империи Цин. Переговоры (например, миссии Ф.И. Байкова, речь о которой пойдет ниже) велись при посредстве монгольского языка. В 1668 г. по распоряжению тобольского воеводы П.И. Годунова (умер в 1670 г.) была предпринята попытка организовать в Тобольске школу переводчиков с монгольского языка, который достаточно широко употреблялся в официальном делопроизводстве и был необходим для контактов с соседними монгольскими народами4.
Ценное собрание документов на монгольском языке, относящееся к раннему периоду истории династии Цин (1636‒1670 гг.), было недавно опубликовано Университетом Внутренней Монголии в Хух-Хото5. Эти документы касаются главным образом Монголии и Тибета. Но среди них имеются два императорских указа, непосредственно связанных с прибытием в Пекин первых официальных русских миссий.
Рассмотрим оба эти документа.
Документ 1.
Tpaнслитерация монгольского текста:
Oros ulus-un cayan qayan-dur bayulyaysan bicig:
Daicing ulus-un quvangdi-yin jarlay: Oros ulus-un cayan qayan-dur bayulyaba:
Cinu ulus barayun qoyitu eteged-tur yajar qola bilged: ijayur-aca Dumdadu ulus-tur kiircii yabuysan iigei biigetele: ediige ci say in aldari sonusayad: linen sedkil-iyer yajar-tur aqu ed-iyen ktirgegul-iln kumiln iiegegsen-ii tulada bi masi sayisiyaba: Minu qola-dakin-i ulemji ordsiyekti sedkil-i iledken: cimadur tuslaju yosulan oglige ogguged: iregsen elci-diir tusiyalyan ogcu ilegebe: Egiini kiindiilen kuliyejti abuyad: yerii egiiride cing linen ey-e-yi tegiisken: iiy-e-yin [p. 181] ily-e-dtlr ktirtele ciqulakesig-i ktlliy-e: Tuslaju bayulyaba:
Перевод:
Послание русскому белому царю.
Повеление императора государства Дай Цин. Дано Белому царю Русского государства.
Хотя твое государство находится далеко на северо-западе и изначально не имело связи со Срединным государством, ныне ты, услыхав о славе [нашего государства], с искренними помыслами прислал [своих] людей и поднес [в виде дани] продукты своей земли. fl это весьма одобряю. Проявляя свое огромное милосердие в отношении дальних [народов], я тебя приветствую и даю подарки, и посылаю приказ через [твоего] прибывшего посла. Приняв его с почтением, навеки исполнись духом искренности и получай нашу милость из поколения в поколение.
Издал указ во 2-й день среднего летнего месяца [5 июня 1655 г. по Григорианскому календарю, 26 мая 1655 г. по fiлианскому календарю] 6.
Документ этот появился при следующих обстоятельствах.
B 1654 г. из Тобольска в Пекин выехало большое русское посольство во главе с дворянином Ф.И. Байковым (1612? ‒ 1663 или 1664). Оно было направлено царем Алексеем Михайловичем с целью установления официальных отношений с новой династией Цин7.
Чтобы известить китайские власти о скором его прибытии, был выслан вперед «казенный караван» во главе с тобольским татарским головою Петром flрыжкиным (flрышкиным). Подробностей о почти годичном пребывании flрыжкина и его спутников в Пекине не сохранилось. Из китайских же источников известно, что flрыжкин совершил обряд «коутоу», то есть совершил три коленопреклонения с девятью земными поклонами. Поэтому русским представителям была разрешена торговля в Пекине, выдано вознаграждение и передан заготовленный по этому случаю императорский «указ» русскому царю8.
Это императорское «повеление» является трафаретным документом, иллюстрирующим основные положения традиционной китайской политической доктрины, и не касается конкретных вопросов русско-китайских отношений.
Провозглашенная в 1636 г. династия Дай Цин в 1644 г. установила свою власть в Китае. Процесс укрепления и консолидации новой империи потребовал немало времени и усилий. В 1653 г. Пекин посетил Далай-лама V, принятый с почестями. Согласно китайским представлениям о мироустройстве, «приезд издалека был откликом на распространение благого влияния императора на весь мир и доказательством тем большей силы его, чем дальше находилась земля приехавшего». Поэтому при дворе «людям издалека» был уготован радушный прием 9.
Как следует из текста «повеления», приезд русского посольства был воспринят схожим образом. В нем нет даже намека на равенство сторон, и это становится очевидным из самого небольшого филологического ана- лиза текста «повеления». Оно не просто дано, а спущено сверху вниз (монг. baγulγaba). Император не просто «приветствует и дает подарки» русскому царю, а «приветствуя и помогая, дает подаяние» (монг. tuslaγu yosulan o.. glige o.. gguged). В русском переводе мы не отразили эти оттенки, поскольку тогда документ стал был восприниматься русскоязычным читателем как написанный в высокомерно-уничижительном тоне. Однако это не так: универсальный властитель, которым являлся император в китайской традиции, только так и мог разговаривать с правителями отдаленных стран.
К этому документу применима оценка А.С. Мартыновым «повеления» хошутскому Гуши-хану, данного императором Шуньчжи за два года до прибытия flрыжкина: «Это типичный документ установления отношений без установления отношений, ибо они устанавливаются между универсальным монархом и локальным правителем, отношений ритуальных, не определяемых ни значением, ни положением “внешней земли”»10.
Китайский вариант документа сохранился в «Шилу» («Правдивые записи») императора Шуньчжи (Шицзу) и был переведен на русский язык11. В целом, этот перевод совпадает с выполненным нами переводом с монгольского. В русском переводе этого документа с китайского языка император говорит о себе «мы». Однако везде в монгольском тексте говорится «я» ( монг. bi), что и отражено в нашем переводе. Во втором документе император говорит о себе «мы» ( монг. bide), что также отражено в переводе.
Документ 2.
Tpaнслитерация монгольского текста:
Looca-dur ilegegsen:
Quvangdi-yin jarlay: Oros-un ulus-un cayan qayan-dur bayulyaba: Cinu iige kemen: Nircuu-dur sayuysan Danila-yin ayiladqaysan anu: qoyar ulus qarilcaban sayin boluyad: oggiilcin abulcin: elci qudaltu uruysi qoyisi sayad ugei yabuyul-un egiiride nayiraldun asuyai: Dayisun bolbasu nigen nigen-degen kuciin nemesugei: Basa gantemiir-un tula: danila bi: cayan qayan-dur ayiladqaba: Cayan qayan-u iig kemeku tige-yi sonusuysan-u qoyin-a: udai iigei daru ilegemiii: Yaysa-dur sayuysan Miki-far tan: Jucaru: Daqur tan-i qalid-un ayulyalaysan-u tulada: terigiilegsen arban kiimun-i bariju mon ku ayiladqaba: Qayan-u tige-yi kiiliyemiii kemejiikii: Egiin-ii urida man-u bulaycin-u terigtin: Qara moren-u jug-tiir Looca kemeku ulus-un ocugiiken qulayai-ci: biden-ii bulay-a goriigelegci Jucari Dahuri tan-i qalidumui: basa biden-u Gantemiir boscu oduyad Looca-dur tiisiju amui kemen ayiladuysan-dur: yerii cerig ilegeju: tiibsidkesiigei kemegsen buliige: Basa sonusbasu: Looca kemegci anu: cayan qayan-dur qariya-tu kememii kemen sonusuysan-u qoyin-a: kiimiin ilegeju linen qudal-i labtalaju ir-e kemen ilegegsen-dur Nircuu-yin terigtin Danila Ingnati-yin jerge-yin arban kiimiin-i elci ilegeju: cinu iige kemen bicig ayiladqar-a iregsen-ii qoyin-a: sayi: mayad-iyar cinu qariy-a-tu-yi todorqay-a medebe: Cinu Перевод: ica mon kii yabun biiluge: Ediige bolbacu: cinu ayiladuysan tige-ber egiiride sayin bol-un asuyai kemebesii: bosoysan Gantemur-i qoyisi qariyulju:
egiln-cce qoyinaysi jaq-a-yin yajar-a samayun yabudal-i bu egiiske: Egiiber bolbasu: sayin boluyad: amuyulang-iyar aqu bolai: Egiin-u tula tuslaju bayulba:
Engke amuyulang-un yisudiiger on: jun-u dumdadu sar-a-yin sin-e-yin yisiin-e: Bayisintai bicibe.
Перевод:
Отправлено лочам.
Повеление императора Белому царю Русского государства.
Находящийся в Нерчинске Данила доложил [нам следующее], говоря, что это твое слово. «Пусть отношения между двумя странами будут хорошими, а послов и торговцев, покупающих и продающих, беспрепятственно в обе стороны будем направлять и всегда будем дружить. Если объявится враг, то поможем друг другу [военной] силой. Что же касается Гантимура, то я, Данила, доложил Белому царю. После того, как услышу слово Белого царя “Выдать!” ‒ сразу же [его] пришлю».
Он же доложил [нам], что находящийся в Албазине Микифор напал на чжучаров и дауров и, чтобы [их] удержать, захватил десятерых [их] предводителей. Сказал, что ожидает царского слова.
Ранее начальник наших собольщиков доложил, что в районе реки Амур мелкие разбойники из народа, называемого «лочами», напали на наших охотников на соболя чжучаров и дауров. Также и наш [подданный] Гантемур, бежав, нашел прибежище у лочей. На это мы сказали: «Вообще пошлем [туда] войско и установим мир [и порядок]!» Когда же мы еще услышали, что эти «лочи» есть подданные Белого царя, то мы отправили [туда] людей, сказав [им]: «Выясните, что [здесь] правда, а что ‒ ложь!» [В ответ] на [это] посольство начальник Нерчинска Данила отправил посольство из десяти человек [в составе] Игнатия и прочих. После того, как [он] представил нам [официальную] бумагу, сказав, что это твое [царское] слово, мы cpaзу доподлинно узнали, что действительно [лочи] являются твоими подданными. Таким же изначально был и твой посол. Хотя теперь [дела обстоят подобным образом], если [поступать] по твоему слову: «Пусть всегда будет хорошо», ‒ то возврати обратно беглого Гантимура и впредь не устраивай смуту в пограничных землях! Тогда станет хорошо и жить будем мирно.
Ради этого издали [указ].
В 9-й день среднего летнего месяца 9-го года правления под девизом Канси [25 июня 1670 г. по Григорианскому календарю, 15 июня 1670 г. по fiлианскому календарю]12.
В 1670 г. Нерчинский воевода Данила Данилович Аршинский (в тексте ‒ «Данила») по собственной инициативе направил в Пекин посольство во главе с сыном боярским Игнатием Михайловым Миловановым (в тексте ‒ «Игнатий»). Перед посольством была поставлена задача ни много ни мало убедить императора стать подданным русского царя. Однако маньчжурские сановники доложили императору, что русские послы сами привезли «грамоту о подчинении». Милованову был оказан прекрасный прием, он и его спутники были даже удостоены императорской аудиенции, причем от них не требовали совершения коутоу13.
Император Канси не собирался переходить в русское подданство. Его и маньчжурских сановников волновали прежде всего два вопроса: переход эвенкийского князя Гантимура в русское подданство, и дальнейшее укрепление русских в Приамурье.
Князь Гантимур начал платить ясак московскому царю в 1651 г., однако через некоторое время он со своими подданными был переселен вглубь Маньчжурии. В 1667 г., не желая участвовать в военной кампании против русских, он со всеми своими подданными и родственниками перешел на сторону России. Опасаясь претензий Гантимура на свои владения в районе реки Нонни (Нэньцзян), маньчжурские власти неоднократно требовали от сибирских воевод его выдачи14. Однако ни Гантимур, ни его родственники не были выданы маньчжурам. Окончательно об отказе рассматривать вопрос о его выдаче было заявлено цинским представителям уже после его смерти в 1686 г. Формальным основанием для этого был объявлен тот факт, что Гантимур и его родственники приняли православие, и «отдать их, яко единоверных, со стороны царского величества невоз-можно»15.
С 1660-х гг. главным русским форпостом в Приамурье стал острог Албазин. Предводитель албазинских казаков Никифор Романович Черниговский (в тексте ‒ «Микифор») вел себя в значительной степени независимо по отношению к Нерчинскому воеводе Аршинскому16. Поэтому маньчжуры принялись выяснять, является ли он подданным русского царя или нет.
Любопытно появление в документе термина «лоча», который с этого времени стал использоваться в документах на маньчжурском языке в значении «русский». Это слово восходит к санскритскому «ракшас» («демон»). Через буддийские тексты оно попало в китайский язык в транскрипции «ло ча», а из него ‒ в маньчжурский.
Содержание документа было давно известно из «списка», русского перевода, выполненного в XVII в. Приведем его текст.
Список с богдойского листу.
От богдойского царя послан лист великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу.
По твоему великого государя указу присыланы были ко мне из Нер-чинсково острогу от Данила Аршинского послы нерчинские служивые люди Игнатей Милованов с товарыщи, чтобы нам с тобою, великим го- сударем, посольство сводить, и с торгами к вам и к нам ездили безо всякие помешки безпрестанно. А надежно, буде с коих земель сторонних под нерчинские остроги и к нам каких воинских людей, и нам друг другу помогать. А для ради де Гантемира Данило Аршинский к тебе, великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всеа Великия и Ма-лыя и Белыя Росии самодержцу, писал в отписке.
Да были мои промышленные люди на Шилке-реке для соболиново промыслу, а приехав те мои промышленные люди сказали мне: по Шилке де реке в Олбазинском живут руские небольшие люди Микифорко Черниговской с служилыми людьми, и воюют де наших украинных людей даур и чючар. И я, богдакан, хотел послать на русских людей войною. И мне сказали, что живут твои великого государя люди. И я воевать не велел. И послал я своих людей проведывать: впрямь ли в Нерчинском остроге живут твои великого государя люди? И воевода из Нерчинского острогу по твоему великого государя указу Данило Аршинский присылал ко мне послов и письмо, и я ныне узнал, что впрямь в Нерчинском остроге воевода и служилые люди живут по твоему великого государя указу. И впредь бы наших украинных земель людей не воевали и худа б никакого не чинили. А что на этом слове положено, станем жить в миру и в радосте.
И для того я, богдокан, к тебе, великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, послал лист17.
Академик В.С. Мясников полагал, что «вопрос о достоверности текста этого документа стоит особо. Мы не располагаем его оригиналом на маньчжурском и китайском языках. Что здесь нужно отнести на счет дипломатических формулировок, выработанных в Пекине, что на счет нерчинских переводчиков, а что лежит на совести Д.Д. Аршинского, руководившего ими, ‒ эта задача разрешима лишь в случае обнаружения в архивах КНР или на Тайване отпуска этого “листа” Сюань Е [Император Канси. ‒ В.У .]»18. Наличие официального монгольского текста позволяет легко обнаружить редакторскую работу русских переводчиков. Добавлен, прежде всего, почтительный титул русского царя. Любопытный эквивалент употреблен вместо уничижительного названия «лоча»: «руские небольшие люди». О Гантимуре упоминается лишь вскользь, а требование о его выдаче убрано из текста документа. Из текста оригинала видно некоторое недоверие русскому посланнику, который свои слова выдает за царские. В «списке» же прямо сказано: «по твоему великого государя указу». Но в целом «список» адекватно передает смысл императорского указа.
Таким образом, опубликованные в КНР документы на монгольском языке являются ценными источниками не только по истории Монголии и Китая. Они помогают лучше представлять развитие русско-китайских отношений и те проблемы, с которыми Россия и Китай сталкивались на ранних этапах.
Список литературы Из истории русско-китайских отношений в XVII в.: (по новым документам на монгольском языке)
- Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. С. 14.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии. Чебоксары, 1960. С. 609.
- Собрание документов на монгольском языке из дворцового архива династии Цин. В 7 т. Хух-Хото, 2004.
- Мясников B.C. Империя Цин и Русское государство в XVII в. Хабаровск, 1987. С. 105-112.
- Мартынов A.C. Статус Тибета в XVII-XVIII веках в традиционной китайской системе политических представлений. М., 1978. С. 110.
- Русско-китайские отношения в XVII веке: Материалы и документы. Т. 1. 1608-1683. М., 1969. С. 553.
- Беспрозванных Е.П. Приамурье в системе русско-китайских отношений, XVII -середина XIX в. Хабаровск, 1986. С. 50-51.