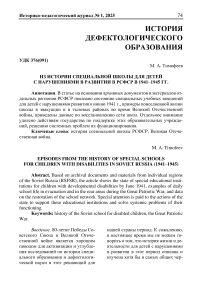Из истории специальной школы для детей с нарушениями в развитии в РСФСР в 1941-1945 гг
Автор: Тимофеев М.А.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История дефектологического образования
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании архивных документов и материалов отдельных регионов РСФСР показано состояние специальных учебных заведений для детей с нарушениями развития к июню 1941 г., примеры повседневной жизни школы в эвакуации и в тыловых районах во время Великой Отечественной войны, приведены данные по восстановлению сети школ. Отдельное внимание уделено действиям государства по поддержке этих образовательных учреждений, решению системных проблем их функционирования.
История специальной школы рсфср, великая отечественная война
Короткий адрес: https://sciup.org/140309072
IDR: 140309072 | УДК: 376(091)
Текст научной статьи Из истории специальной школы для детей с нарушениями в развитии в РСФСР в 1941-1945 гг
Введение. 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне является хорошим поводом для активизации и углубления исследований по истории специального образования и дефектологической науки в этот решающий для нашей страны период. К сожалению, в настоящее время мы не можем говорить о том, что история жизни и деятельности для детей с нарушениями в развитии в этот период описана и изучена хотя бы в самых общих чер- тах. Стабильная традиция исторического исследования этого сегмента жизни, опирающаяся прежде всего на самый разнообразный круг документальных, повествовательных источников, а также на мемуаристику и периодическую печать, не сложилась. Причин этому много, и главные, на наш взгляд, это разбросанность материалов, фрагментарность сведений, плохая сохранность архивных фондов, обусловленная в том числе и самими событиями Великой Отечественной. И конечно, отсутствие практики поиска первоисточников и работы с ними у большинства обращающихся к исторической тематике.
Между тем, история спецшкол для глухих, слепых и умственно отсталых детей в период Великой Отечественной войны, интересная и важная не только сама по себе как этап в развитии этого сектора системы образования, позволяет осветить целый ряд системных вопросов, связанных с жизнью советского общества в целом, государственной политики в образовании, культурных и мировоззренческих парадигм, человеческих взаимоотношений. Как предмет исследования он интересен не только в плане анализа влияния войны на работу и развитие системы специального образования, но и в вопросах и проблемах ее функционирования (кадровых, материальных, методических), которые возникли ранее и не были до конца решены к лету 1941 г.
Непосредственное изучение источникового материала позволяет увидеть, с какими трудностями самого разного характера (от бытового до кадрового) столкнулись спец- школы в этот период, как был организован и протекал образовательный процесс, воспитательная работа, как решались задачи по выполнению поставленных государством ориентиров, как на деле осуществлялась поддержка и обеспечение этих образовательных учреждений, сколько школ для указанных категорий детей было в стране перед войной, как проходил процесс их восстановления в разрушенных районах РСФСР и многое другое. Тыловая повседневность, являвшая образцы высоты человеческого духа и равнодушия, преданности профессии и ловкачества военного времени, человеческого сочувствия и чиновного бюрократизма – все это сосуществовало здесь так же, как и во всем обществе.
Материалы и методы. Данная статья представляет собой частичную попытку обобщения и корректировки общих данных, в т. ч. статистических, по состоянию спецшкол для детей с нарушениями развития в РСФСР к началу военных действий, описания мер по эвакуации школ из прифронтовой зоны, жизни школ в бывших фронтовых и в тыловых районах страны (на примере годовых отчетов школ для слепых Костромской, Нижегородской, Московской областей, Ставропольского края), действий государства по восстановлению системы специального образования в областях, разоренных войной.
В качестве задач были выделены: источниковедческая – выявление и ввод в научный оборот архивного документального материала по данной проблематике; аналитическая – систематизация и анализ информации по функционированию во время
Великой Отечественной войны системы специализированных образовательных учреждений, содержащейся в документальных материалах официального и иного характера.
Источниками исследования выступают неопубликованные документы из ф. А–2306 Государственного архива РФ (фонд Наркомпроса), ф. 17 оп. 126 Российского государственного архива социально-политической истории (Отдел школ ЦК ВКП(б)), ф.44 и 78 Научного архива РАО, опубликованные официальные документы Наркомпроса (постановления, выступления представителей руководства и др.), материалы периодических изданий (Учительская газета за 1941 г., бюллетень НИИ дефектологии).
В качестве методологической основы работы использованы историко-критические подходы, а также частные специальные методы – конкретно-исторический, историкосравнительный, содержательный анализ архивных текстовых материалов.
Результаты исследования. Сороковые годы XX века стали особым периодом в истории развития системы специальной педагогики и дефектологии в нашей стране. Один из крупнейших ученых-дефектологов и педагогов страны А. И. Дьячков выделял это время в отдельный этап развития [Дьячков, 1967, с. 3]. Традиционную работу с детьми с нарушениями в развитии дополнили и принципиально расширили реалии военного времени. В дефектологической науке «возникло новое направление – разработка теории преодоления слуховых, речевых и других нарушений, обусловленных условиями военного времени. Создавались специальные методы обучения взрослых – ослепших, оглохших и потерявших речь, инвалидов Великой Отечественной войны. В специальных школах усилилась трудовая подготовка; учащиеся готовились к активному участию в общественно полезном труде», писал он [Дьячков, 1968, c.10].
Состояние системы специального образования в РСФСР к началу 1941 года
В 1941 год система советского специального образования вступала со значительными итогами, большими обязательствами и не менее серьезными ожиданиями. Ее развитие было продиктовано стратегической задачей, сформулированной в марте 1939 года на XVIII съезде ВКП(б): «…осуществить в третьей пятилетке всеобщее среднее обучение в городе и завершить всеобщее 7-летнее обучение в деревне и во всех национальных республиках с расширением охвата детей десятилетним обучением» [Сборник приказов и инструкций по Наркомпросу РСФСР, № 7, c.2].
Можно констатировать, что к началу Великой Отечественной войны обучением в специальных школах и классах удалось охватить основную массу детей с нарушенным слухом, зрением из числа способных усвоить программу общеобразовательной школы I–II ступени [Малофеев, 2013, с. 220, 235]. Хотя это относится в первую очередь к районам Европейской части России, а также к большим городам и прилегающим местностям Урала и Сибири. Неполноту охвата и неудовлетворительно поставленную на местах работу по учету этой категории детей подтверждают годовые отчеты школ периода войны, действовавшие в районах, которые не были территорией боевых действий.
Обратимся непосредственно к данным по количеству учреждений системы специального образования в РСФСР накануне трагического июня 1941 г. Точных и всеми принятых цифр в силу различных методик подсчета на сегодняшний день не существует и эту работу еще предстоит осуществить на основе официальных документальных архивных материалов, находящихся в фондах ГА РФ и РГАСПИ, обработанных по единой методике.
В пределах административных границ РСФСР, согласно официальной информации республиканского Наркомпроса, в 1940/41 учебном году в системе ведомства насчитывалось 435 специальных и вспомогательных школ с контингентом учащихся 46 302 человека. Из них в 255 школах для глухонемых обучалось 27 010 человек, в 119 вспомогательных (для умственно отсталых) – 14 679 человек. И еще 4 613 человек учились в 61 школе для слепых [Народное образование в РСФСР в 1944 году, с. 27].
В цифрах, приводимых в существующей литературе по истории специального образования и дефектологии, единства на это счет нет. Так, А. Г. Басова, без ссылок на источники, сообщает, что в 1941 г. в РСФСР была 271 школа для глухих
[Басова, Егоров, 1984, с. 245]. Возможно, имеет место смешение понятий РСФСР и СССР. Эта же цифра, 271 школа, и 31 426 учащихся фигурирует в опубликованной в 1965 г. статье Г. В. Кузнецовой [Кузнецова, 1965, с. 118]. А. И. Дьячков приводил иные цифры: 219 школ для глухих, 108 вспомогательных школ и 56 школ для слепых [Дьячков, 1967, № 4, с. 3, 5]. В. А. Феоктистова указывает 55 школ для слепых [Феоктистова, 1980, с. 47].
Скорее всего, сеть специальных школ находилась примерно в том же состоянии и испытывала те же самые проблемы, что и средняя школа. Об этом говорят материалы постановления Всероссийского совещания заведующих край(обл)оно и наркомов просвещения АССР, состоявшегося в начале 1941 года. Это и повышение уровня учителей, и техническое состояние школ, обеспеченность их оборудованием, преподавание ряда предметов, внутренний распорядок и пр. Приводимые далее материалы военного времени это лишь подтверждают.
Специальной школе в документе был посвящен отдельный пункт: «3. Принять меры к обучению всех слепых, глухонемых и умственно-отсталых детей, для чего расширить сеть специальных школ, установить систематическое руководство ими со стороны край(обл)оно и наркомпросов АССР и обеспечить перевод этих школ на односменные занятия» [Сборник приказов и инструкций…, № 7, с. 4].
Увидеть состояние дел в специальной школе на местах, далеких от столицы, можно на примере Татарской АССР [Отчеты НКП Татарской АССР]. В 1940/41 уч. году в республике было две школы для слепых детей (средняя на 94 чел. в Свияжске и неполная средняя на 72 чел. в Елабуге) и три неполных средних вспомогательных (одна областная с интернатом на 85 чел. в Свияжске и две в Казани, русская на 92 чел. и татарская на 111 чел. Дополнительно в начале учебного года была выделена группа имбицилликов в количестве 12 чел.).
Основные проблемы, с которыми сталкивались школы: низкий процент успеваемости, несоответствие школьных помещений гигиеническим требованиям, недостаточная квалификация педагогов, недостаток или низкий уровень подготовки учителей по профобразованию.
Так, в школах слепых только 3 учителя закончили дефектологический факультет ЛГПИ им. А. И. Герцена и еще 2 имели высшее педагогическое образование. Из 30 педагогов, работавших во вспомогательных школах, только 3 имели высшее дефектологическое и 4 – законченное высшее педагогическое образование. Тем не менее, бросается в глаза их стремление постоянно повышать квалификацию, вести необходимую методическую работу. Так, педагоги вспомогательных школ проводили методические совещания, где выступали с докладами по актуальным темам, например, «Изучение умственно отсталого ребенка», «Психология умственно отсталого ребенка по Занкову» и др. Учителя внимательно изучали новые учебники и методики, а также читали статьи из бюллетеня Научно-практического института специальных школ и детских домов НКП РСФСР (с 1943 г. – НИИ дефектологии).
Реальный процент успеваемости был низкий; например, во вспомогательных школах 73,7%. Проблемы с этим показателем, как правило, были связаны с недостаточной компетентностью и опытом педагогов, уровнем технической оснащенности учебного процесса и личными качествами некоторых учеников. Так, во вспомогательные школы очень часто поступал смешанный и не соответствующий характеру деятельности учебного заведения контингент – дети с тяжелой умственной отсталостью, переростки из детских домов с легкой степенью отсталости, которых отчисляли из д/д за плохое поведение [Отчеты НКП Татарской АССР, л. 9об].
И в школах для слепых детей, и во вспомогательных (не только в этом регионе) существовала проблема с педагогами профессионального обучения. Из-за их отсутствия в Свияжской школе слепых 9 трикотажных машин простаивали без дела и обучение не велось, а ученики вспомогательных школ хронически не могли полностью пройти программы по швейному и столярному делу «из-за недостаточной квалификации инструкторов» [Отчеты НКП Татарской АССР, л. 13].
Несмотря на кадровую специфику педагоги, помимо учебы, уделяли большое внимание формированию простейших навыков самообслуживания: в рамках кружков рукоделия незрячих девочек учили шить носовые платки, штопать и ставить заплатки. Во вспомогательных школах в этот список добавлялось умение подмести комнату, полить цветы, вытереть пыль с предметов, пришить пуговицу.
Следует отметить, что во всех школах активно велась и иная воспитательная и внеклассная работа. Ученики посещали драмкружки, хоровой, кружок по изучению истории ВКП(б). Учащиеся школы слепых в Елабуге выступали с концертами на республиканском радио, а их коллеги из Свияжска – в районной олимпиаде по детскому творчеству.
Для некоторых школ РСФСР 1941-й год стал юбилейным. Так, 14 июня отмечала свое 50-летие Смоленская школа слепых. 26 ее воспитанников встречали праздник на летней даче школы в д. Слобода. Здесь они и встретят начало войны, отсюда двинутся в эвакуацию [Кононов, 2001, c. 46–47].
Начало войны. Эвакуация. Тыловая повседневность
Начало Великой Отечественной войны вызвало неизбежную перестройку всего уклада жизни общества, в том числе системы образования и специальной школы как ее звена. В условиях военного времени возникли серьезные затруднения в жизни и деятельности специальных школ и в развитии теоретических основ системы воспитания и обучения аномальных детей.
В обращении руководства Наркомпроса РСФСР к педагогам 29 июня 1941 года говорилось о необходимости полностью подготовиться к новому учебному году несмотря на военные действия [Учительская газета, № 79(2871) от 2 июля 1941 г.].
Приспособление к новой реальности началось незамедлительно. 3 июля вышел приказ Наркомпроса о привлечении учащихся 7–10 классов к с/х работам в военное время [Сборник приказов и инструкций…, № 15– 16, с. 3–4]. И буквально через несколько дней после начала войны начинается эвакуация в глубокий тыл всех типов школ и детских домов из прифронтовых районов и районов, которым угрожало воздушное нападение. Специальные школы являлись в своем большинстве интернатными учреждениями, эвакуация которых составляла значительную сложность.
Не имея практического опыта перемещения огромных людских масс в таких условиях, организаторы эвакуации допускали летом 1941-го много ошибок. Не было мобилизационного плана, сотрудники органов власти перекладывали решение вопроса об эвакуации детей на родителей (г. Москва), не были предусмотрены врачи, педагогические кадры на местах, не решены вопросы с транспортом, горячим питанием [Отдел школ ЦК ВКП(б), Дело 2]. Встречалось и откровенное неприятие эвакуируемых со стороны местных чиновников. Учащиеся спецшкол вместе с педагогами долго добирались до конечного пункта назначения. Кто-то не выдерживал нагрузки и бросал своих коллег и учеников. Так, ученики Смоленской школы слепых попали в Пензу через полтора месяца пути под бомбежками [Кононов, 2001, c.47–51]. Учащиеся московского Института для слепых детей были эвакуированы в г. Мензелинск (Татарская АССР) [Сизова, 2008, c.103]. В Москву они вернутся в 1943
году. Специальные школы Ленинграда перемещаются в Омскую, Тюменскую, Челябинскую области (часть школы № 1 для глухих и школы для тугоухих). Школы Узбекистана приняли у себя эвакуированных детей – ок. 100 человек школа слепых и более 200 учеников – школа глухих [Малофеев, 2013, с. 248]. С целью организации приема эвакуированных Наркомпрос РСФСР издает 17 июля приказ № 547 «О наведении порядка по обслуживанию школьников», которым предписано обеспечить полный цикл функционирования образовательных учреждений – от количества школ и интернатов до топлива, медикаментов и пр. [Сборник приказов и инструкций…, № 15– 16, с. 4]. И хотя документ относился только к Москве, Ленинграду и соседним областям, его нормы впоследствии будут транслироваться уже повсеместно. В начале августа в регионы уйдет директива Наркомата, которая предписывала организовать регистрацию всех детей, находящихся на территории, и обеспечить им образование [Учительская газета, № 93(2885) от 3 августа 1941 г.].
12 августа глава Наркомпроса РСФСР В. П. Потемкин информирует руководство страны об основных изменениях в организации работы школы: новый режим, изменения в учебном плане и программе (учеба в 3 смены и пр.) [Отдел школ ЦК ВКП(б), Дело 2]. Он будет касаться и специальных заведений тоже. 17 августа в «Учительской газете» в развернутом виде была опубликована по сути новая концепция жизни школы в условиях войны [Учительская газета, № 99(2891) от 17 августа 1941 г.].
В целях упорядочения жизни и деятельности эвакуированных детских учреждений НКП РСФСР издал также специальное «Положение об интернатах для детей школьного возраста, прибывающих из других областей». Мера была своевременной, так как никто не рассчитывал на столь большое количество эвакуированных. На местах поначалу к ним относились по-разному. Так, в приказе Наркомпроса РСФСР № 682 от 18 сентября 1941 г. говорилось: «…Наркомпрос Татарской АССР не осознал в должной мере всей политической важности вопроса обслуживания эвакуированных детей и осуществления повседневной заботы о них. Только известной беспечностью можно объяснить тот факт, что в Татарской республике даже отсутствует точный учет эвакуированных детей и что интернаты находятся в недопустимом состоянии» [Сборник приказов и инструкций…, № 18, с. 2].
Руководствуясь этим положением и принимая во внимание особенности развития аномальных детей, коллективы эвакуированных специальных школ старались организовать учебно-воспитательный процесс, а не просто жизнь детей в интернатном учреждении. Специальные школы, расположенные в тылу, оказывали помощь школам глухонемых, слепых, вспомогательным, эвакуированным из районов военных действий. Местным властям приходилось решать целый ряд сложнейших проблем: размещение детей, организацию снабжения одеждой, учебниками, топливом на зиму, питанием.
Война вынудила педагогов и учащихся специальных школ заниматься не совсем привычным делом. В соответствии с приказом Нарком-проса «Об улучшении подсобных хозяйств и организации с/х труда воспитанников детских домов» школы, в т. ч. и специальные, получают участки земли, скот, занимаются агротехническими работами, выращивая корнеплоды, что позволяет обогатить рацион питания учащихся.
Следует отметить, что, несмотря на значительные сложности, которые испытывали специальные школы (в том числе и эвакуированные), учебные занятия в 1941/42 учебном году начались 1 сентября.
Постановление СНК СССР от 23 января 1942 года «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» обязывало решить старую проблему с учетом всех детей школьного возраста и вовлечь их в образовательный процесс. Хотя на практике это было далеко не везде.
В целом же в первые годы войны сеть специальных школ в РСФСР значительно уменьшилась, – закрыто было 232 школы, в том числе в тыловых областях 30 школ. За этот период из специальных школ выбыло 25 900 учащихся [Народное образование в РСФСР в 1944 году, c.27]. Количество вспомогательных школ сократилось в два раза [Назарова, Пенин, 2007, c. 196]. Но точных цифр на сегодняшний день привести пока нет возможности: в 1942/43 учебном году Наркомпрос официально заявлял, что не располагает полными дан- ными о движении учащихся [Народное образование в РСФСР в 1943 году, c. 5].
Весь военный период школы, располагавшиеся в тыловых областях и республиках, даже не расширившиеся за счет эвакуированных, ежедневно решали сложнейшие задачи выживания учителей и учеников, а также обеспечения учебного процесса.
Так, в Горьковской областной школе-интернате для слепых в 1943/44 учебном году училось 72 человека, по 10–12 учеников в классе [Отчет школы для слепых детей Горьковской области, л. 1]. Учебный процесс обладал своей спецификой – «как и в предыдущие годы, школа не имела твердых программ, а потому в распределении учебного материала придерживалась программы массовой школы», говорится в годовом отчете [Отчет школы для слепых детей Горьковской области, л. 2]. Из-за этого в младшей школе есть только 2 и 4 классы, материал растягивают на два года, иначе нечему будет учить в 5 классе.
Наблюдались уходившие корнями в предыдущие годы и иные трудности. В 8–9 классах не было учебников по литературе, физике, химии, алгебре, географии. Из-за отсутствия приборов и реактивов химию объясняли на словах. Не хватало (или пришли в негодность) карт по истории и географии. В результате учебный процесс и усвояемость материала протекали медленнее, многие ученики не проявляли должной активности. Изучение Конституции РСФСР как учебного предмета в школе считали преждевременным по причине несоответствия уровню развития детей [Отчет школы для слепых детей Горьковской области, л. 5].
Из-за отсутствия специализированной программы были трудности и в преподавании физкультуры – оно велось по программе массовой школы. Хотя, как отмечалось в документе, для незрячих физкультура как предмет имеет большее значение, чем для зрячих, потому что она учит ориентировке в пространстве, навыкам правильно держать свое тело и т. п. Обучение профессиональному труду (изготовление щеток) происходило только благодаря поддержке сторонней коммерческой артели – Наркомпрос сырьем школу не обеспечивает [Отчет школы для слепых детей Горьковской области, л. 6]. Специальной учебной программы для слепых по профтруду также не было.
При этом воспитательная и внеклассная работа была поставлена на достаточно высоком уровне. Основной акцент делался на воспитание патриотизма и работу военно-оборонного характера. Обязательной была ежедневная политинформация для учащихся. Учителя часто выступали перед ними с докладами. Темы порой были политически злободневны, но в большей степени носили просветительский, историко-героический характер. Вот они: «Дмитрий Донской», «Александр Суворов», «Кто такая Жанна д’Арк», «Русские и советские имена на карте мира». Хотя были и актуальные для подростка «Сон и сновидение», «Любовь и дружба». Учителя много читали детям вслух. Как правило, это была классика, причем дореволюционная: исторические романы Лажечникова, Загоскина, драмы Шекспира, рассказы Чехова, романы Льва Толстого [Отчет школы для слепых детей Горьковской области, л. 8–9].
Бытовых проблем также хватало. Интернат не был обеспечен санитарно-гигиеническими принадлежностями («не было зубных щеток, зубного порошка, мыла. Мытье детей проходило раз в 10 дней»), возникали проблемы с дровами для отопления. Отсутствовала брайлевская бумага («Если в отчетном учебном году с бумагой вышли из тупика тем, что исписанную бумагу мочили и гладили, то на новый учебный год от такого использования бумаги ничего не осталось»). В школе не было воспитателей (при 8 по штату). Много организационных хлопот доставляла старая проблема – невозможность комплектовать новые классы, потому что «учет слепых не ведется».
В свободное время ученики также занимались домашними работами и самообслуживанием – уборка в столовой, мытье полов, посуды, накрывали столы, стирали галстуки и носовые платки, уборка снега на улице, пилка и колка дров [Отчет школы для слепых детей Горьковской области, л. 10–11].
Схожий круг вопросов был и у одной из старейших в России Костромской школы для слепых. Что характерно, отчет датирован весной 1945 года. «До сих пор все мероприятия по всеобучу еще не оправдывают себя… По начальному образованию [школа] обслуживает две области: Костромскую и Ярославскую, а […] учащиеся собираются со всего
Советского Союза. Ни один год школа не имеет точных цифр учета слепых детей, подлежащих обучению. Это приводит к тому, что нередко в начальную школу привозят переростков даже в первый класс» [Отчет средней школы для слепых детей г. Костромы, л. 1].
В школе учится 110 человек. Питание по нормам детских домов, 400 г хлеба в день. Иногда идет неравноценная замена, более взрослым ученикам нормы явно не хватает. Дополнительные продукты дает подсобное хозяйство. Это 5 га земли и 136 рам парников. Постоянная проблема с отоплением – не хватает дров (нет возможности привезти): «Нужно 400 кубов, а отпустили 190, причем с вывозкой за 16 км или путем вылавливания собственными силами по р. Волге и распиловкой на берегу». Заниматься в холоде нельзя: «Условия обучения в школе слепых при низкой t невозможны, так как теряется осязание при чтении и застывают руки от холодных металлических приборов при письме» [Отчет средней школы для слепых детей г. Костромы, л. 2об].
Большой проблемой был вопрос снабжения учащихся зимней и летней обувью и одеждой (пальто). Местный райснаб выдавал школе одежду и обувь, не учитывая возрастную шкалу учеников – только маленькие размеры, подходящие дошкольникам и учащимся начальной школы. В то время как 76 из 110 учеников были старше 16 лет [Отчет средней школы для слепых детей г. Костромы, л. 1об].
В плане общих положений учебно-воспитательного процесса специальная школа жила вместе со всей страной. На осуществление всеобщего обучения среди аномальных детей и на укрепление учебно-воспитательного процесса в специальных школах в условиях военного времени оказали влияние общепедагогические законоположения, которые были изданы во время войны и учитывали новые реалии.
В 1943 г. СНК СССР установил, что всеобщее обязательное обучение должно начинаться с семилетнего возраста. Это постановление было распространено и на детей с нарушениями в развитии. С 1944/45 учебного года в специальные школы стали принимать с семилетнего возраста глухонемых, слепых и других аномальных детей.
В августе 1943 г. СНК РСФСР утвердил «Правила для учащихся». В этих правилах говорилось об обязанностях учащихся, повышались требования к их поведению. В октябре Наркомат Просвещения РСФСР издал распоряжение «Об улучшении контроля за работой школ и учителей и постановки учета знаний учащихся». Это распоряжение обязывало учителей специальных школ повышать требования к знаниям учащихся. Введение цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения (январь 1944 г.) в массовых школах потребовало решения этого вопроса и в школах специальных.
В июле 1944 г. СНК СССР издал постановление «О мерах по улучшению качества обучения в школе», в котором определялась сдача экзаменов окончившими начальные, се- милетние и средние школы. В специальных школах также были введены выпускные экзамены. А контрольные задания на выпускных экзаменах учащимся специальных школ (кроме вспомогательных) предъявлялись такие же, что и учащимся массовых школ.
Эти и многие другие официальные документы Правительства СССР и РСФСР, руководства ВКП(б) давали специальной школе возможность сохраняться и развиваться даже в тяжелейших условиях военного времени. Для педагогов-дефектологов проводились межобластные совещания (Свердловск, Куйбышев, Ярославль), где обсуждались актуальные вопросы деятельности школ – совершенствование программ обучения русскому языку глухих детей, методическая работа, идейно-патриотическое воспитание [Назарова, Пенин, 2007, c.197].
Специальная школа на оккупированных территориях
История специальных школ на оккупированных фашистскими войсками территориях СССР является для исследования самым непростым с точки зрения наличия и состояния источниковой базы. В настоящее время можно говорить о том, что, безусловно, война не пощадила большую часть специальных школ и нанесла тяжелый удар по педагогическому составу. Одна лишь сеть учебных заведений для детей с нарушением слуха на территории РСФСР потеряла за первый год войны 111 школ [Назарова, Пенин, 2007, c. 267]. Всего же в оккупированных областях Российской Федерации было разрушено более 17 000 школ, не говоря уже об остальной инфраструктуре народного образования [Малофеев, 2013, c.214].
Воспитанников заведений для детей с нарушениями в развитии часто ожидала трагическая судьба. Так, в сентябре 1942 г. фашисты расстреляли и закопали заживо 47 воспитанников Нижне-Чирского детдома для умственно отсталых детей (Сталинградская область).
Восстановление специальных школ на освобожденных территориях. Проблема восстановления школьной сети и системы образования в целом на территориях, освобождаемых от немецко-фашистских войск и их союзников, стала одной из ключевых в деятельности партийнополитического руководства страны. Можно сказать, что ее решение началось после разгрома немцев под Москвой в конце 1941 года. Принципиальные изменения стали возможны после того, как Совет Народных Комиссаров СССР издал постановление «О неотложных мероприятиях по восстановлению хозяйства в освобожденных районах» (21 августа 1943 г.). Судя по всему, из общего числа специальных школ, существовавших до войны, на тот момент их, по официальным данным, осталось 213 [Народное образование в РСФСР в 1944 году, c. 27].
В освобожденные районы и области направляли руководителей специальных школ, которые были эвакуированы в другие районы Советского Союза, учебники, оборудование. Задачи формулировались просто: возродить школу, собрать детей и начать учебный процесс, чтобы за- вершить в перспективе решения задачи по осуществлению среднего образования в городах и всеобщего семилетнего обучения на селе, поставленной на 1942 год третьим пятилетним планом и сорванной войной.
Вопросы восстановления на освобожденных территориях сети детских учебных заведений требовали огромных человеческих и материальных затрат. Работа шла масштабная: только в 1944 г. было восстановлено 2 437 школ по плану и 2 539 школ сверх плана. Однако оставалась масса нерешенных проблем – например, 20% учащихся не посещали школу потому, что у них просто не было одежды и обуви [Народное образование в РСФСР в 1944 году, c. 9].
Изменился и контингент учеников. Так, в отличие от детей довоенного периода ряды учащихся пополнили «дети войны», потерявшие зрение, слух, конечности в результате взрывных травм. Часто они приходили в школу уже переростками. Так, среди учеников Кисловодской школы слепых (5 класс) 50% учащихся потеряли зрение во время войны. И помимо программного материала им приходилось осваивать письмо Брайля (письмо, чтение, арифметика). Что создавало большие трудности в преподавании, потому что «специального [первого] класса для них не было возможности организовать из-за недостатка преподавателей)» [Отчет Ставропольской краевой школы слепых детей, л.3об.]. В целом число таких учащихся по стране составляло 30% от общего количества слепых школьников, причем многие успели ранее закончить несколько классов массовой зрячей школы [Феоктистова, 1980, c. 54]. Высок был и процент детей с психологическими травмами.
Весной 1943 г. в число первоочередных вышел вопрос снабжения учебниками. Страна испытывала катастрофическую нехватку учебной литературы по целому ряду причин. Во-первых, на освобождаемых территориях они были почти полностью уничтожены. По сведениям Нарком-проса РСФСР, на 16 территориях республики (Сталинградской, Курской, Ростовской областях, Ставропольском, Краснодарском краях, Калмыцкой АССР и др.) по далеко неполным данным было уничтожено свыше 50 млн. экземпляров учебников. Во-вторых, тираж выпуска новых изданий упал почти в 6 раз (с 80–90 млн. ежегодно до 1941 г. до 15 млн. по плану Учпедгиза на 1943/44 уч. г., причем даже этот тираж не был обеспечен бумагой). И, наконец, большое количество изданных ранее учебников (до 50% от ежегодного тиража) оставалось на руках у населения и использовалось не по назначению [Отдел школ ЦК ВКП(б), Дело 9]. Нарком-прос совместно с Госпланом предложил ввести новый порядок комплектования – создавать в школах собственный фонд учебной литературы и выдавать ее ученикам во временное пользование.
Специальные школы также испытывали дефицит учебников, как и всего остального, причем даже в районах, не подвергавшихся фашистской оккупации. Тем более остро стоял вопрос на освобожденных территориях. Проблемы обеспечения функционирования школ усугублялись целым рядом других факторов -от равнодушия чиновников, финансовой политики Госбанка, географической удаленности самой школы до отсутствия дорог, топлива, электричества, котельных, обслуживающего персонала и т. д.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию вокруг Кисловодской (б. Ставропольской краевой) школы слепых [Отчет Ставропольской краевой школы слепых детей]. В ней, как в зеркале, отразился весь комплекс проблем, характерных для учебных заведений, вынужденно начинавших работу «с нуля». В связи с полным разрушением здания во время войны, ее директор добился перевода заведения в Кисловодск. Работу школа начала осенью 1943 г. В ней насчитывалось 40 учеников. Школьное здание не подходило по функционалу, было полуразрушено. В нем не было тепла, света, врача и медсестры, уборщиц. Учащиеся не имели постельного белья вообще; нательного был неполный комплект и то не у всех. Не было бумаги, наглядных пособий. «Отсутствие в школе электросвета также мешало работе, так как из-за недостатка незрячих учебников приходилось пользоваться зрячими учебниками, а при отсутствии света трудно было уложиться во времени, чтобы нужный материал прочитать до темноты» [Отчет Ставропольской краевой школы слепых детей, л. 3]. С 12 декабря по 10 марта занятий не было -нечем было топить печи.
На следующий учебный год ситуация несколько улучшилась. Школу перевели в другое здание, но многие бытовые проблемы остались. Учителям приходилось стирать белье учащихся, гладить, обрабатывать его, весь 1944 г. они также боролись с завшивленностью (котельная здесь тоже была не достроена). Очень остро стоял вопрос с обеспечением питания учеников и учителей. Как правило, молочных продуктов в отпускных точках горторга нет, овощи предлагают забирать на своем транспорте, причем очень далеко от Кисловодска. При школе питаются только одиночки-незрячие учителя, остальной персонал получает сухой паек. В нем полностью отсутствуют овощи, крупа, молочные продукты [Отчет Ставропольской краевой школы слепых детей, л. 11]. И в дополнение - знакомая проблема с одеждой: выделяют только маленькие размеры, годные для дошкольников, а вместо ботинок - недолговечные чувяки [Отчет Ставропольской краевой школы слепых детей, л. 10].
Среди других трудностей (света и тут не было) учителя выделяли отсутствие брайлевской бумаги, учебников и наглядных пособий по географии, истории, естествознанию, физики, химии, математике, художественной литературы (библиотека насчитывала всего 200 книг).
Учительский коллектив школы был таков: 11 учителей на 80 учеников. Из них тифлопедагогов 5, 2 из них малоопытные. С высшим образованием 6 учителей, 2 окончили двухгодичный пединститут, 3 со средним образованием [Отчет Ставропольской краевой школы слепых детей, л.4об.].
Однако наблюдались и положительные моменты. В 1944 году была отработана процедура приема в школу детей – после собеседования с родителями. В 1943 году контингент был во многом случайным – в незрячие записались бродяги, нищие, беспризорники, вносившие негативный элемент в школьную жизнь (мелкое воровство, курение, грубость в отношении старших и пр.).
Как бы то ни было, коллектив школы в силу возможностей выполнял вышеупомянутые задачи и указания партии и правительства. Так, учителя и дети взяли шефство над госпиталем, где лечились военноослепшие. Они не только проводили концерты (примерно раз в два месяца), но и оказывали им помощь в освоении Брайля [Отчет Ставропольской краевой школы слепых детей, л.4].
С выполнением установок по организации подсобных хозяйств и работе в них было сложнее. Горсовет Кисловодска не спешил выделять обещанные 75 га земли и часть ее отдал местным жителям под огороды. Школе не выделяли семян, а скотину (3 коровы, 3 лошади и 2 осла) дали бракованную. Приобрести что-то самостоятельно школа могла только по рыночным ценам, но Госбанк подолгу задерживал платежи.
Проявилась здесь и общая для многих местностей проблема – отсутствие учета детей с нарушениями здоровья, что позволяло бы планировать ежегодный набор классов и своевременно принимать решения в области кадров. «КрайОНО и Край-ВОС не занимается учетом слепых детей по краю», сообщает директор, выражая надежду на перспективную поддержку со стороны местной администрации и чиновников образования. То же, как мы видели, происходило в целом ряде регионов.
Значительно лучше, но тоже не без проблем, обстояло дело в специальных учебных заведениях Московской области. Так, школа-интернат для слепых в Болшево вернулась в свое старое, немного пострадавшее во время войны здание из кратковременной эвакуации в Курганскую область еще в 1942 году. Круг проблем был уже знаком [Отчет неполной средней школы слепых детей г. Болшево]. Главная – переполненность школы и неприспособленность здания. В 1943 году в ней училось 114 человек вместо положенных 75. Классных помещений было 5, а само здание имело множество лестниц, переходов и закоулков, что затрудняло жизнь незрячих школьников. Категорически не хватало одежды и обуви – 45 пальто, сильно выношенные, бóльшая часть малых размеров. «На всех детей имеется всего 15 пар валенок, кожаной и брезентовой обуви 80 пар». С топливом положение было напряженное, хотя из-за отсутствия топлива занятия не срывались. Температура в классах в самые сильные холода не опускалась ниже 8 градусов, в спальнях ниже 12–14 градусов.
Что касается обеспечения учебного процесса, то болшевская школа, как и остальные, испытывала дефицит учебников по Брайлю, особенно в старших классах – по некоторым предметам их было по 1–2 штуки на класс, наблюдался и недостаток учебных пособий – глобусов, геометрических фигур, приборов и пр.
Кадрами школа была обеспечена (из них 6 человек с высшим образованием), но их качество оставляло желать лучшего – ни учителя, ни воспитатели не работали над повышением квалификации.
Схожая с другими школами ситуация складывалась в области профобразования и выполнения планов. Дети старше 12 лет обучаются и работают в щеточной мастерской, но со стороны НКП не организована поставка сырья, поэтому программа хронически не выполняется.
В связи с тем, что, как и в Костромской школе, здесь наблюдалась дезорганизация в плане приема, руководство выступило с предложением производить прием детей, пропуская их через специальные врачебные комиссии.
Согласно официальным отчетам, в целом по стране, в том числе в областях, освобожденных от немецкой оккупации, процесс воссоздания школьной системы двигался, хоть и не без недостатков, но почти по плану. К 1 января 1944 г. в освобожденных районах РСФСР возобновили работу 23 805 школ [Кондакова, 1976, c. 222].
Основным затруднением в выполнении народнохозяйственного плана называлось отсутствие достаточного количества приспособленных помещений, главным образом, в областях, освобождённых от немецкой оккупации.
Успешно было выполнено задание по восстановлению сети специальных школ и обеспечению всеобуча глухонемых, слепых и умственно отсталых в Курской, Архангельской, Ивановской, Кировской,
Тамбовской, Челябинской, Вологодской областях и г. Ленинграде. Неудовлетворительно выполнили план Чкаловская (н. Оренбургская), Тульская, Калининская (н. Тверская) области, Коми АССР, Алтайский край и др.
Так, например, в 1943/44 учебном году восстановлено 60 специальных школ, из которых 20 в районах, освобождённых от немецкой оккупации [Народное образование в РСФСР в 1944 году, c. 27]. К концу 1943 г. были восстановлены и начали работу 24 школы глухих [Басова, Егоров, 1984, c. 245]. Всего же количество детей, охваченных специальным обучением, по мнению некоторых исследователей, достигло в этот период десяти тысяч человек [Назарова, Пенин, 2007, с. 196. Авторы не указывают источник данных].
Распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР № 16480-р от 11 августа 1944 г. Наркомпросу РСФСР было предложено в 1944/45 учебном году восстановить сеть специальных школ, существовавшую до июня 1941 г. В соответствии с этим распоряжением Наркомпрос приказом от 16 сентября 1944 г. № 628 обязал местные отделы народного образования приступить к восстановлению закрывшихся специальных школ и принять в них 17 310 чел.
В результате произведённой на местах работы к 15 декабря 1944 г. количество специальных школ увеличилось с 213 в 1943 г. до 278, а контингенты в них соответственно – с 18 500 чел. до 23 989. Однако план приёма в специальные школы оказался невыполненным – принято было 15 993 чел., или 81,3% к плану.
***
Дальнейшее развитие специальной школы будет уже происходить с учетом задач пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946– 1950 гг., который советское правительство приняло после окончания Великой Отечественной войны. В нем предусматривалось создание условий для осуществления семилетнего обучения всего подрастающего поколения, что в свою очередь оказало положительное влияние и на осуществление всеобщего обучения среди детей, имеющих физические и умственные недостатки.
Обсуждение результатов. Работа по поиску, выявлению и анализу документальных материалов, связанных с деятельностью специальных школ для детей с нарушениями развития в РСФСР в 1941–1945 гг. позволила не только сделать попытку общего и основанного на исторических источниках обзора основных моментов этой темы, но и задать вектор для дальнейшей работы по формированию источниковой документальной базы исследований. Данные материалы способствуют не только восстановлению полной и достоверной картины жизни специальной школы во время Великой Отечественной войны, но и предоставляют возможность для подготовки более масштабных и системных исследований по истории специальной педагогики и дефектологии в СССР.
Заключение. На основании впервые вводимых в оборот документальных архивных материалов, описывающих повседневную жизнь и де- ятельность школ для детей с нарушениями развития во время Великой Отечественной войны, а также широкого ряда иных источников по истории системы образования в СССР и РСФСР (официальные документы, мемуаристика, периодическая печать, статистические материалы и пр.), можно утверждать, что процессы организации учебной, воспитательной работы этих учебных заведений строились в полном соответствии с общими принципами развития системы образования, ориентировавшейся на установки партийного руководства страны, в том числе в условиях военного времени. Стоит также отметить, что во время войны был продолжен процесс формирования специализированной учебно-методической базы, призванной учитывать особенности учеников с нарушениями в развитии и обеспечить в более полной мере образовательную и воспитательную работу в этом сегменте системы школьного образования РСФСР.