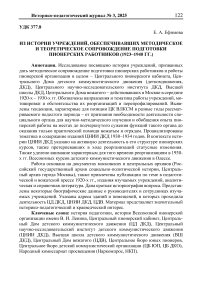Из истории учреждений, обеспечивавших методическое и теоретическое сопровождение подготовки пионерских работников (1923–1940 гг.)
Автор: Ефимова Е.А.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История отечественного образования и педагогики
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено истории учреждений, призванных дать методическое сопровождение подготовки пионерских работников и работы пионерской организации в целом – Центрального пионерского кабинета, Центрального Дома детского коммунистического движения (деткомдвижения, ДКД), Центрального научно-исследовательского института ДКД, Высшей школы ДКД, Центрального Дома вожатого – действовавших в Москве в середине 1920-х – 1930-х гг. Обозначены направления и тематика работы учреждений, мотивировки и обстоятельства их реорганизаций и перепрофилирований. Выявлены тенденции, характерные для позиции ЦК ВЛКСМ в разные годы рассматриваемого недолгого периода – от признания необходимости деятельности специального органа для научно-методического изучения и обобщения опыта пионерской работы на местах до подчеркнутого сужения функций такого органа до оказания только практической помощи вожатым и отрядам. Проанализированы тематика и содержание изданий ЦНИИ ДКД 1930–1934 годов. В контексте истории ЦНИИ ДКД указано на активную деятельность в его структуре пионерских курсов, также претерпевавших в ходе реорганизаций статусные изменения. Также уделено внимание характерным для того времени реорганизациям в 1930х гг. Всесоюзных курсов детского коммунистического движения в Одессе. Работа основана на документах московских и центральных архивов (Российский государственный архив социально-политической истории, Центральный архив города Москвы), также привлечены публикации по теме в педагогической и вожатской прессе 1920-х гг., издания изучаемых учреждений, аналитическая и справочная литература. Дана краткая историография вопроса. Представлены некоторые биографические данные о руководителях и сотрудниках изучаемых учреждений. Указаны адреса зданий и помещений, в которых проходила деятельность ЦД ДКД, ЦНИИ ДКД, ЦДВ. Материал представляет значительный историко-педагогический и краеведческий интерес.
История педагогики, история Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, Центральный пионерский кабинет, Центральный Дом детского коммунистического движения (ЦД ДКД), Центральный научно-исследовательский институт детского коммунистического движения (ЦНИИ ДКД), Высшая школа детского коммунистического движения (ВШ ДКД), Центральный Дом вожатого (ЦДВ), Центральное бюро юных пионеров, Центральное бюро детской коммунистической организации (ЦБ ЮП, ЦБ ДКО), Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос, НКП)
Короткий адрес: https://sciup.org/140312111
IDR: 140312111 | УДК: 377.8
Текст научной статьи Из истории учреждений, обеспечивавших методическое и теоретическое сопровождение подготовки пионерских работников (1923–1940 гг.)
Введение. Как указывалось в наших предыдущих публикациях по теме, успешная организация подготовки руководителей детского движения является непременным условием функционирования детских объединений [Ефимова, Из истории, 2025; Ефимова, Курсы, 2025].
На необходимость освоения опыта СССР в области подготовки кадров руководителей пионерских отрядов и дружин указала в своем выступлении 15 ноября 2024 г. на II Всероссийской Международной конференции «Движения Первых» президент РАО, доктор исторических наук О. Ю. Васильева.
Вместе с задачей подготовки пионерских работников с первых лет деятельности пионерской организации встала проблема разработки практической, теоретической и методической базы этой работы.
Многие аспекты истории методического и педагогического сопровождения пионерской работы освещены в работах К. С. Зыковой, В. А. Кудинова, И. В. Руденко [Зыкова, 1974]; [Кудинов, 1979 и др.]; [Руденко, 2008 и др.] и др.
Материалы и методы. В данной статье мы стремимся восстановить по архивным источникам историю подведомственных комсомолу (не рассматривается история Академии коммунистического воспитания [АКВ] имени Н. К. Крупской – высшего педагогического учебного заведения) учебных заведений, учреждений и их подразделений, занимавшихся в 1920-е – 1930-е гг. подготовкой пионерских работников разных уровней, разработкой теории, истории, методики пионерской работы;
также сбором, накоплением, обобщением практического материала, опыта работы лучших отрядов, звеньев, баз, форпостов, дружин.
Результаты исследования и их обсуждение . Для ранних годов пионерской истории является характерным, что инициативы и рекомендации центральных органов комсомола в области пионерской работы доводились в письменном виде до нижестоящих и там получали, по мере возможностей, интерпретацию и реализацию на местном материале; анализа проведенной работы в низовых организациях практически не было. Значительная часть работы по сбору и обобщению опыта, особенно в первые годы, велась подразделениями ЦК комсомола на основе работы московских и подмосковных отрядов.
Необходимость организации методического обеспечения работы была осознана пионерскими руководителями уже в 1923 г.: «При ЦБ [юных пионеров] сконструирована методическая коллегия с привлечением туда коммунистов – педагогических работников института коммунистического воспитания» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 168. л. 3– 5, 7–8]. В. А. Кудинов в свое время упоминал без сноски на документы, что «с 28 июля 1923 г. под руководством Н. К. Крупской начала работу методическая комиссия Центрального Бюро деткомгрупп» [Кудинов, 1976, с. 157]. И. В. Руденко перечисляет членов методической коллегии: «Л. Р. Менжинская из АКВ, А. В. Залкинд, М. В. Крупенина, В. В. Розанов – ГУС, М. М. Шульман – МОНО, С. М. Ривес – ВСФК, представители районов Москвы, всего 13
человек» (к сожалению, архивная сноска дана в этой публикации неверно) [Руденко, 2008, с. 89]. В протоколе № 1 заседания методической коллегии от 25 августа 1924 г. [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 279. л. 2– 7, 14] имеется запись выступления заместителя председателя ЦБ ЮП А. И. Волкова, где отмечена значительная работа, проделанная ранее существовавшей Центральной Методической коллегией при ЦБ ЮП, и сообщено, что ЦБ ЮП предложило утвержденный ЦК РЛКСМ новый состав коллегии: «Менжинская – Академия ком. воспитания, Залкинд – Высший Научно-Педагогический курсы [от руки], Штейнберг – Институт Карла Либкнехта, Крупенина – ГУС, Шулман [Шульман] – МОНО, Терехова – Хам[овнический] район, Блюм – Хам[овнический] район, Розанов – ГУС, Смирнов – Бауманов-ский район, Ганшин – Краснопресненское бюро, Кайдалов – Замоскворецкий район, Ривес – представитель ВСФК, и целиком Президиум Центрального Бюро «Юных пионеров» и представитель НКЗ [от руки]». Кроме перечисленных лиц и докладчика на заседании коллегии присутствовали: Зак, Гинсбург, Вольпе, Са-домская, Смоляров, Соболева, Тере-мякина [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 279. л. 2].
В протоколе заседания бюро ЦК РЛКСМ № 2 от 24 июля 1924 г. упомянуты в том же порядке те же лица, входившие в методическую комиссию по детдвижению; учитывая хронологию событий и характерные опечатки в написании некоторых фамилий в этом документе, можно предположить, что это было как раз утверждение состава методической коллегии на бюро ЦК РЛКСМ [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 12. л. 336].
На заседании методколлегии от 25 августа 1924 г. было предложено разрабатывать вопросы из обсуждаемого плана работы (11 заседаний с августа по ноябрь 1924 г.) группами или комиссиями по 3–4 человека, вынося их затем на обсуждение коллегии [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 279. л. 3].
Упоминания о центральной методической коллегии ЦБ юных пионеров неоднократно встречаются в документах 1924–1925 гг. Предметом ее внимания были мероприятия по разгрузке и оздоровлению пионеров, вопросы быта пионеров, работа пионеров в школе, работа форпостов, организация и работа клуба пионеров, летняя работа пионеров, работа деревенского отряда в летний и зимний период, работа со старшим возрастом, пионерская печать, работа пионеров в детских домах, дошкольных детских домах и детских садах, программа деревенских губкурсов вожатых, даты красного календаря в отряде (годовщина февральской революции, день работницы), трудовое, антирелигиозное, интернациональное воспитание, политпросвещение пионеров [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 15. л. 86; оп. 23. д. 279. л. 4, 9, 14; оп. 23. д. 282. л. 5; оп. 23. д. 450. л. 35; д. 455. л. 3–7, 9–11, 14, 86]. Интересно, что на первом заседании было согласовано, что в работе групп будут принимать участие студенты АКВ [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 279. л. 7], а в январе-марте 1925 г. «для проработки всех вопросов к активному участию привлекаются центральные курсы [по подготовке пионер-работ-ников]» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 455. л. 86].
В сентябре 1925 г. «методическая коллегия ЦБ ЮП из педагогов-партийцев, специалистов и практических работников ДКД <…> пришла к необходимости разбиться на ряд постоянных комиссий по основным областям работы юных пионеров» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 453. л. 1]. В документах встречаются, например, упоминания о комиссии по оздоровлению при методической коллегии ЦБ, сотрудничающей с РОКК [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 450. л. 35], о комиссиях по работе в школах и детучреждениях, по деревенской работе, по работе в национальных областях и с национальными меньшинствами, по общественно-практической и внутри-воспитательной работе, по работе среди октябрят, по детской литературе [РГАСПИ. Ф.М– 1. оп. 23. д. 453. л. 2, 15-16; д. 455. л. 70–71], а также о районных методических комиссиях, о совещаниях губернских методкомиссий, созывавшихся ЦБ ЮП в конце 1924-начале 1925 гг. [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 278. л. 55; д. 281. л. 38–39; д. 460. л. 81]. При Мосбюро ЮП в 1925–1926 гг. действовало методбюро, персонально сформированное примерно по той же схеме, что и центральная ме-тодкомиссия [ЦАГМ. Ф.П–634. оп. 1. д. 57. л. 106; д. 102. л. 72 об.].
Со временем возникла необходимость в научно-методическом учреждении, систематически и целенаправленно занимающемся многочисленными аспектами работы детской организации. Проект создания кабинета ДКД был впервые вынесен на заседание центральной методической коллегии ЦБ в сентябре 1924 г. В материалах по методической работе ЦБ ЮП 1925 года указано, что работа комиссий «требует предварительного собирания и изучения материалов опыта низовых организаций, что невозможно без постоянно действующего аппарата в виде кабинета детдвижения» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 453. л. 1].
Его организация была мотивирована необходимостью изучения опыта, анализа работы форпостов в школах, работы с учителями, изучения пролетарского ребенка, организации курсов по детскому движению в педагогических институтах; предполагались сбор печатного материала, изучение работы пионероргани-заций Москвы, Подмосковья, пионерских форпостов, пионерской работы в детских домах, рассмотрение программ ГУСа и этапов работы пионеротряда на предмет их совместимости, изучение быта и организации детской жизни в школе, роль пио-нерорганизаций в школе [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 279. л. 15–17; д. 453. л. 1,5; см. тж. д. 460. л. 80].
Единый кабинет пионер-ра-ботника предполагалось создать на базе Мосбюро ЮП совместно с гуманитарно-педагогическим институтом, включив в него по одному представителю от бюро ЮП районов Москвы и от Мосбюро [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 282. л. 5]. В результате в 1925 г. в состав кабинета вошли 2 представителя ЦБ ЮП, заведующий кабинетом, лаборант, секретарь, представитель ИМШР [Научноисследовательский институт методов школьной работы Наркомпроса], работник над книгой, работник над песней, несколько практических работников, большинство которых работали на общественных началах: оплачивался труд четырех сотрудников [Баташев, 1925]. По смете центрального пионер-кабинета на 1925– 1926 гг. можно видеть финансируемые направления его работы: обследование пионеротрядов Москвы (30 отрядов) и Подмосковья (8 отрядов), устройство выставки по пионерской работе, приобретение литературы (48 книг в месяц), подписка на год (5 журналов и 8 газет); в штате осталось только два оплачиваемых работника [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 455. л. 94–94 об.].
И. В. Руденко указывает, что пионерские кабинеты (кабинеты пионерской работы) в 1925–1926 гг. действовали также в АКВ и ИМШР [Руденко, 2008, с. 97].
Через год, в ноябре 1925 г. бюро ЦК РЛКСМ констатировало, что действующий «при ЦБ в ИМШР» центральный кабинет по деткомдви-жению, слабо связан с работой ЦБ и московской организации юных пионеров [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 20. л. 77; оп. 23. д. 453. л. 1, 4–6, 16]. Таким образом, на бюро ЦК РЛКСМ был еще раз поставлен вопрос о работе центрального кабинета по детд-вижению (по пионердвижению). Выступал по этому вопросу В. А. Зорин, член ЦБ с 1922 г., крупный пионерский работник, в будущем известный дипломат. Реорганизуемый пионер-кабинет в его выступлении охарактеризован как подсобный исследовательский орган ЦБ ЮП. Декларированы задачи собирания, подбора и предварительной проработки материала по разным вопросам практики и теории детдвижения, а именно по общественно-политической, массовой работе, работе в школе, подготовке и воспитанию работников ДКД и т. д., затем подготовка к научной проработке теоретических вопросов детского движения. Также среди задач кабинета были обслуживание текущей работы пионерорганизации путем дачи справок и организации выставок для низовых организаций при обязательной обратной связи с работой московских пионеров, с губернскими пионер-кабинетами и методическими комиссиями на местах. Сотрудничество с ИМШР должно выражаться в предоставлении специалистов, помещения и пособий для работы. Штаты центрального пио-нер-кабинета должен утверждать агитпроп [отдел пропаганды и агитации] ЦК РКП(б) [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 20. л. 74–79]. Положение о центральном пионер-кабинете было утверждено на заседании президиума ЦБ ЮП от 28 сентября 1926 г. [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 636. л. 82].
Аналогичные кабинеты предлагалось создавать в губернских бюро юных пионеров при одном из пионерских клубов с целью сбора информации по истории и практике детского движения губернии, обобщения местного опыта, оказания помощи городским и деревенским отрядам [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 451. д. 41–44; д. 453. л. 7–14]. Положение о губернских пионерских кабинетах было утверждено ЦК ВЛКСМ 11 декабря 1926 г. [История, 1985, с. 4; РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. л. 34; оп. 23.
д. 451. л. 41–44]. Также на местах предлагалось для консультирования вожатых открывать комнаты вожатого [Руденко, 2008, с. 97].
Представление о направлениях, содержании и формах работы пионер-кабинетов на местах дают немногочисленные сохранившиеся издания [Бюллетень, 1928; Бюллетень, 1929; О подготовке, 1929; Магалиф, 1930].
В архивных документах отражена тематика первых совместных заседаний совета центрального кабинета по ДКД с представителями ИМШР и гуманитарно-педагогического института. Обсуждались классификация материала кабинета, схемы обследования пионеротрядов, программа по ДКД для учительских курсов, организованных [Мос]губпросом при Центральном доме работников просвещения, проблемы сбора литературы, а также различных публикаций, книжных и газетных новинок по теме [РГАСПИ. Ф.М–1.оп. 23. д. 279. л. 24–26]. И. В. Руденко пишет, что за период с 15 сентября 1924 г. по 20 января 1925 г. центральный кабинет совместно с методической коллегией разработали и направили 12 методических писем и 10 методических материалов в помощь руководителям пионерских отрядов [Руденко, 2008, с. 97].
Удалось установить, что в 1927–1928 гг. зав. центральным пионерским кабинетом был Б. В. Брюхо-ненко [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 35. л. 200; оп. 4. д. 28; д. 35], выпускник первых всесоюзных курсов пионер-работников [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 459. л. 2].
Данных о дальнейшей деятельности центрального пионерского кабинета нам пока не удалось обнаружить. Известно, что находился он по адресу: Б. Трубецкой (впоследствии Хользунов) переулок, д.16 [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 942. л. 80] и 7 июля 1928 г. был передан от ЦК ВЛКСМ в ведение Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской [История, 1985, с. 57]. Возможно, это было связано с тем, что в структуре АКВ имени Н. К. Крупской 1 сентября 1928 г. были открыты отделение ДКД, ориентированное на подготовку пионерских кадров, и научно-методический кабинет [Зори, 1972, с. 49].
На местах продолжали действовать немногочисленные райпио-неркабинеты, рай[пионер]комнаты и райдома [Методическую работу, 1931, с. 18]. Весной 1929 г. прошла конференция пионерских кабинетов, подчеркнувшая необходимость развертывания теоретической работы в области ДКД [За изучение, 1930, с. 33, 65].
Имеются сведения о деятельности центрального учреждения со сходными функциями, но с несколько более долгой и многогранной историей – Центрального Дома коммунистического воспитания при ЦК ВЛКСМ (другие формулировки названия: Центральный Дом дет-комдвижения , Центральный Дом пионерского движения). Инициативный документ о его создании – протокол № 36 заседания президиума ЦБ ДКО от 29 октября 1929 г., утвержденный на заседании секретариата ЦК ВЛКСМ 17 ноября 1929 г. [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 41. л.
83,91] (хотя вопрос о необходимости его создания вставал еще в октябре 1924 г. [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 282. л. 5]). Располагался ЦД ДКД по адресу: Мертвый переулок, д. 8.
В этих материалах Центральный Дом деткомдвижения охарактеризован «как единый методический центр ЦБ, без оперативных функций, объединяющий все центральные детские станции и методические органы ЦБ» для помощи в решении «задач обеспечивания методической разработки вопросов участия детей в хозяйственном и культурном строительстве в городе и в деревне, в культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной, в военной работе, работы среди октябрят, вопросов подготовки кадров и работы с детским активом, а также более углубленной научно-исследовательской проработки важнейших проблем» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 43. л. 49].
Функции его были сформулированы более четко, чем функции центрального пионерского кабинета; автор документа был тот же самый – В. А. Зорин; он и был назначен в январе 1930 г. заведующим Центральным домом пионерского движения [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 42]. Следует отметить, что среди важнейших тем названы подготовка кадров и научно-исследовательская работа – именно в эту сторону и происходила эволюция направления деятельности учреждения.
Буквально в эти же дни (октябрь-ноябрь 1929 г.) ЦБ ЮП выдвинуло предложение об организации центрального института пионерских кадров , одобренное бюро ЦК ВЛКСМ 9 ноября 1929 г. [История,
1985, с. 67]; его название было сформулировано как «институт по подготовке пионер-работников» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 62. л. 22 и далее]. Очевидно, что сосредоточение внимания ЦБ ЮП на создании учебного заведения этого профиля связано с начавшейся с августа 1929 г. мобилизацией в соответствии с наказом Первого всесоюзного пионерского слета 50 тысяч комсомольцев на пионерскую работу [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 60. л. 212]. Мы видим, что ЦБ ЮП сконцентрировалось на организации обучения будущих пионервожатых, тогда как В. А. Зорин ставил вопрос об организации соответствующего научно-исследовательского многофункционального учреждения.
Центральный Дом деткомдви-жения успешно подтвердил свою заявку на статус научно-исследовательского учреждения ЦБ ЮП и ЦК ВЛКСМ, проведя 20–24 июня 1930 г. Первую Всесоюзную конференцию по научно-исследовательской и методической работе в области дет-комдвижения и издав ее материалы, что является большой организационной заслугой В. А. Зорина [За изучение, 1930].
Спокойно работать В. А. Зорину пришлось недолго: в феврале 1930 г. штаты ЦД ДКД были существенно сокращены. В своем докладе на заседании бюро ЦК ВЛКСМ 28 февраля 1930 г. «О реорганизации аппарата ЦБ ДКО» В. А. Зорин, связывая цели перестройки работы комсомола среди детей и перестройки руководящих органов деткомдвижения с необходимостью упрощения аппарата, понятности схемы руководства для вожатых и детей, поставил в один ряд Центральное бюро ЮП [действовавшее на правах отдела ЦК ВЛКСМ [Положение, 1926]] с его президиумом и несколькими оперативными ответственными работниками – и Центральный Дом деткомдвижения «как единый оперативно-методический центр ЦБ», предлагая реорганизовать по той же схеме и низовые руководящие пионерские органы.
Этот ход, возможно, несколько авантюрный, ему не удался. Члены бюро ЦК ВЛКСМ высказались за то, чтобы развести «реорганизацию аппарата ЦБ от реорганизации аппарата Центрального дома комвоспитания» и «просмотреть штаты ЦД в сторону их максимального сокращения» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 65. л. 13об, 121–123]. 20 апреля 1930 г. решением бюро ЦК ВЛКСМ штаты ЦД ДКД были сокращены с 55 до 36 сотрудников (хотя бюро предлагало сокращение к 1 мая 1930 г. до 25 человек, т. е. 11 ставок Зорину удалось отстоять) [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 66. л. 95].
По списку должностей и другим источникам можно восстановить структуру ЦД ДКД на период февраля-апреля 1930 г.:
-
– Раздел обобщения опыта, консультации и информации;
-
– Научно-исследовательский и методический раздел;
-
– Раздел участия в хозяйственном строительстве, трудовой и экспериментальной работе;
-
– Раздел участия в культстрои-тельстве и культурно-массовой работе;
-
– Военно-физкультурный отдел;
-
– Раздел кадров и работы с детским активом [куда входили центральные и заочные пионерские курсы];
-
– Раздел работы среди октябрят [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 66. л. 110– 112];
-
– Международный раздел [Гольдштейн, б. г.].
В контексте этих событий на заседании секретариата [состав секретариата ýже состава бюро] ЦК ВЛКСМ 15 марта 1930 г. после аналогичного доклада В. А. Зорина было принято решение «о реорганизации Центрального Дома Деткомдвиже-ния в Научно-методический центр по вопросам пионерской работы без оперативных функций, находящийся под непосредственным руководством ЦБ ДКО» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 43. л. 32; История, 1985, с. 74,79]. В самом тексте решения секретариата после правки имелась несколько иная формулировка: «Под руководством ЦБ работает Центральный Дом Деткомдвижения, как единый методический центр ЦБ, без оперативных функций, объединяющий все центральные детские станции и методические органы ЦБ ДКО» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 43. л. 43– 49].
На местах тем же документом предлагалось «объединение станций в единые Центральные дома по методической разработке вопросов пионерской работы без оперативных функций» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 43. л. 32]. ЦБ ЮП подтвердил это решение 25 июля 1930 г. [История, 1985, с. 79]. Примерное положение об областном (краевом) доме дет-комдвижения ЦД ДКД разработал и опубликовал ранее [Вопросы, Сб. 1, 1930, с. 171–173].
Формулировка «Научно-методический центр» или «Единый методический центр», отражающая статус учреждения, а не являющаяся его названием, в дальнейших документах ЦК ВЛКСМ была изменена на « Научно-исследовательский институт детского коммунистического движения » [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 68. л. 125]. Отметим, что на упомянутой выше конференции в июне 1930 г. Ф. Ф Королев подчеркивал необходимость организации центрального научно-исследовательского и методического института по деткомдвижению, который «должен не только поставить научно-исследовательскую работу в Москве, но и быть центром, планирующим, организующим контролирующим научно-исследовательскую работу на периферии, центром, организующим подготовку научных работников дет-комдвижения», издающим методическую литературы, а впоследствии и специальный журнал [За изучение, 1930, с. 68,70; Вопросы, Сб. 2, 1930, с. 102, 104].
Директором НИИ ДКД в декабре 1930 г. стал В. А. Зорин, заместителем директора по научной части Ф. Ф. Королев [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 49. л. 109].
Тогда же был укомплектован новый кадровый состав НИИ ДКД: приглашены Л. П. Пекуровская и М. Непомнящий из Ленинграда, М. Брускина из Бауманского райбюро, С. Д. Кильколых с Украины, Ожгибесов из АКВ, также С. М. Ривес из ИМШР и Н. А. Лялин из АКВ [двое последних – «для научной работы в институте с освобождением от ряда других работ, но с оставлением преподавательской работы»] [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 72. л. 169–170; там же, оп. 4. д. 49. л. 108]. В издании «Зори советской пионерии» названы еще фамилии сотрудников НИИ ДКД: А. М. Гель-монт, А. И. Жарков, С. С. Моложавый, Л. Е. Равкин, А. Ф. Родин, И. Г. Розанов [Зори, 1972, с. 55]; ниже мы отмечаем еще несколько фамилий сотрудников НИИ ДКД, упомянутых в документах и изданиях.
Также в штаты НИИ должны были быть включены 10 человек обучающихся в аспирантуре и окончивших аспирантуру по педагогике московских университетов, все из числа бывших пионер-работников. Кроме этого предлагалось в 1931 г. подобрать 30 человек для обучения в аспирантуре НИИ ДКД по разверстке из местных организаций с обеспечением всех финансированием и жилплощадью (последнее в Москве 1930х гг. было неслыханной роскошью) [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 72. л. 169– 170; там же, оп. 4. д. 49. л. 108]. Заметим, что, судя по документам, набор в аспирантуру шел нелегко: «Признать неудовлетворительным ход приема в осенний набор аспирантов института ДКД – командировано обкомами 3 чел., самотеком 42 чел., что ставит под угрозу срыва, в первую очередь, комплектование основной аспирантской группы <…> Предложить областным, краевым и республиканским комитетам ВЛКСМ под личную ответственность председателя бюро ДКО и зав.отделом образо- вания и быта, обеспечить выполнение разверстки, данной ЦК в письме, прислав материал на командированных товарищей в институт ДКД не позже 25 августа [1931 г.]. Предложить институту немедленно командировать для вербовочной работы на местах в важнейшие области и республики работников НКП» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 55. л. 87].
К. С. Зыкова, ссылаясь на документы Научного архива АПН РСФСР, указывала, что на 1932–1937 гг. было запланировано подготовить в аспирантуре НИИ деткомдвижения 233 специалиста [Зыкова, 1974, с. 84].
В этот же период проводилась подготовка пионерских работников и преподавание специальных пионерских дисциплин и в системе Нарком-проса: в педагогических техникумах, педагогических вузах, в АКВ имени Н. К. Крупской. Журнал «Вожатый» в 1928 году призывал пио-нер-работников разных уровней получить высшее образование на факультете внешкольной работы АКВ [Зак, 1928, с. 4–5; Мещеряков, Мира-гов, 1928, с. 79–80]. Выступая на конференции в июне 1930 г. Ф. Ф Королев указывал на необходимость организации кафедр именно «по педагогике деткомдвижения уже в этом году в двух-трех педвузах» [За изучение, 1930, с. 70].
НИИ ДКД сосредоточился на подготовке научных и преподавательских кадров по пионерскому (детскому) движению, придерживаясь принципа соединения «научноисследовательской и методической работы, опирающейся на конкретный опыт массовой коммунистической работы с детьми» [История, 1985, с. 79]. Именно его выпускник и сотрудник В. Г. Яковлев стал первым историком пионерской организации [Яковлев, 1933; Яковлев, 1949]: с 1931 г. он учился в аспирантуре института, затем был заведующим сектором, заместителем директора института по научной части. Интересно, что летом 1932 г. В. Г. Яковлев как заместитель директора НИИ ДКД вместе со старшим научным сотрудником Б. Н. Белелюбским и сотрудницей А. Зайцевой по поручению ЦБ ЮП и ЦК ВЛКСМ занимались организацией научно-исследовательской работой в области коммунистического воспитания в пионерском лагере «Артек», осуществляя также методическую помощь в постановке воспитательной работы в лагере [Музей истории детского движения].
Судя по документам, НИИ ДКД не раз подвергался критике в ЦК ВЛКСМ за недостаточную прак-тикоориентированность работы. Так, в октябре 1931 г. на заседании бюро секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Косарев, несмотря на возражения В. А. Зорина, прямо заявлял, что теоретики оторваны от жизни и «наши институты работают не впереди, а сзади пионер-движения» [РГАСПИ. Ф.М– 1. оп. 3. д. 87. л. 82–90].
В неспокойной обстановке 1930–1931 гг. ЦД ДКД (НИИ ДКД) всё же издал три выпуска сборника «Вопросы деткомдвижения» [Вопросы, 1930–1931].
Анализ публикаций этих сборников, а также тематики многочисленных брошюр, изданных ЦД ДКД (НИИ ДКД) в 1930–1934 гг. [см. каталог РГБ], позволяет сделать выводы о несомненной, несмотря на упомянутые претензии А. В. Косарева, прак-тикоориентированности работы учреждения. Его брошюры, издававшиеся тиражом 7–10 тысяч экземпляров, были посвящены методике проведения политических информаций и историко-революционной пропаганды в отряде, лагерной оздоровительной работе, изучению бюджета времени пионеров и школьников, проблеме взаимоотношений мальчиков и девочек в отряде; некоторые брошюры носят даже не методический, а практически-информацион-ный характер: «Где и как вожатый может получить помощь в своей работе», «Работа пионеротряда. Практическое руководство для вожатых», «Методическую работу в район», «В поход за теорией!» [об организации учебы пионервожатых]. С 1930 г. при ЦД ДКД действовали заочные курсы пионервожатых, в ходе работы которых были опубликованы десятки брошюр для вожатых и методических статей в журнале «Вожатый». В сборниках «Вопросы деткомдвиже-ния», кроме аналитических статей, помещены отчеты о работе пионер-бригад НИИ ДКД и ИМШР по обследованию отрядов и пионерлагерей Московской области, а также области сплошной коллективизации – района Минеральных Вод (Северный Кавказ). В сборниках опубликованы также аналогичные отчеты представителей секций ДКД институтов научной педагогики Москвы и Ленинграда, сообщения о работе по данной тематике на Украине [Вопросы, 1930–1931]. Среди авторов сборников были сотрудники НИИ ДКД (кроме упомянутых ранее) –
В. С. Ханчин, И. М. Разин, Л. Е. Раскин, А. Ф. Евсеева, А. А. Гладкова, А. Е. Подтягина, С. Б. Паина, Е. Б. Моложавая, Н. Кульпенкова. К участию в изданиях НИИ ДКД были привлечены первые лица пионерской организации – А. А. Северьянова, К. Н. Соколов (председатели ЦБ ЮП и Мосбюро ЮП).
НИИ ДКД занимался и сбором информации по истории пионерской организации. В связи с 10-летием пи-онердвижения 25 мая 1932 г. состоялось совещание старых работников комсомола и пионердвижения, участникам которого предлагалось выступить с докладами и «захватить с собой материалы и документы, относящиеся к периоду 1921–1926 гг.» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 279. л. 100].
В январе 1932 г. ЦК ВЛКСМ принял решение передать подготовку кадров пионер-работников органам народного образования (хотя не исключено, в свете последовавших событий, что в действительности целью данного шага было несколько потеснить НИИ ДКД). Согласно решению коллегии НКП была декларирована организация института кадров ДКД на базе отделения ДКД АКВ имени Н. К. Крупской [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 59. л. 5; оп. 3. д. 95. л. 87; История, 1985, с. 103], директором был назначен Крушков; зам. директора института кадров ДКД по учебной части был рекомендован Морозов. НИИ ДКД было предложено совместно с УМСО [возможно – ОМСО, Отдел методического сопровождения образования] НКП в десятидневный срок пересмотреть про- грамму отделения ДКД АКВ применительно к целевым установкам института кадров ДКД [РГАСПИ. Ф.М– 1. оп. 4. д. 59. л. 5]. В. А. Кудинов указывает, что «институт кадров детского коммунистического движения (ДКД) планировалось создать в 1932 году на базе отделения детского коммунистического движения Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской, однако последовавшая осенью 1932 года реорганизация пионерской организации не позволила осуществить задуманное» [Кудинов, 2020; Кудинов, 2017, с. 175].
При этом следует отметить, что именно осенью 1932 г., согласно решениям бюро ЦК ВЛКСМ от 14 сентября и секретариата ЦК ВЛКСМ от 16 ноября 1932 г., было создано другое центральное учебное заведение – Всесоюзная школа по подготовке пионерских работников, по другой формулировке – Высшая школа по подготовке кадров ДКД ; директором ее стал Старосельский [РГАСПИ. Ф.М– 1. оп. 3. д. 98. л. 96–98; оп. 4. д. 73. л. 14], пост зам. директора по административно-хозяйственным вопросам занял Губарев, работавший ранее зам. директора НИИ ДКД [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 73. л. 21,95].
В утвержденных бюро ЦК ВЛКСМ в декабре 1932 г. правилах приема в школу на одном и том же листе употребляются следующие формулировки ее названия «Высшая школа подготовки кадров ДКД» и «Высшая школа по переподготовке кадров ДКД» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 103. л. 242–243]. Небезынтересным было правово-финансовое ее положение: «Школа должна работать под непосредственным руководством ЦБ ДКО и ЦК ВЛКСМ и сектора Совпартшкол НКП РСФСР, проходя по бюджету последнего» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 98. л. 98].
Школа работала с теми же контингентами, что и центральные и губернские курсы пионерработников, обучая председателей райбюро пионерской организации и инструкторов областных, краевых и республиканских бюро ЮП; срок обучения был 3–4 месяца. В плане подготовки руководящего состава пионерской организации Высшая школа продолжила дело курсов пионерработников и НИИ ДКД, но подготовка научных работников резко затормозилась.
В октябре 1932 г. была серьезно реорганизована аспирантура НИИ ДКД, что было напрямую связано с положениями Постановления ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах», утвержденного Политбюро ЦК ВКП(б) 16 сентября 1932 г. [Постановление, 1932], где предлагалось упорядочить и структурировать подготовку научных кадров. Главным аргументом реорганизации была недостаточная подготовленность аспирантов при поступлении (что естественно вытекает из той обстановки, в которой в 1931 г. комплектовалась аспирантура), непостоянство преподавательского состава, слабость методического руководства, маломощность учебной базы НИИ [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 49. л. 120; оп. 3. д. 100. л. 120,140–143]. Как пишет В. А. Кудинов, «аспирантов старших курсов оставили доучиваться, а но- вый набор направили на руководящую пионерскую работу» [Кудинов, 2017, с. 179].
В этой непростой обстановке научные сотрудники НИИ ДКД продолжали научно-исследовательскую (весьма практикоориентированную) работу: сохранились их отчеты и доклады. В. Г. Яковлев работал над темой «Как учитывать интересы пионеров для повышения качества работы колхозных отрядов в условиях учебы», А. М. Гельмонт – «Учет детских интересов в пионер-отряде» и «Кино в пионер-отряде», Ф. Ф. Королев и Л. И. Розенблюм – «Педагогический подход вожатого к пионерам», А. И. Вишневский – «Военнофизкультурное оборудование в условиях зимней работы пионеров» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 1091. л. 57–78].
В феврале 1933 г. произошли кадровые перестановки в НИИ: В. А. Зорин был освобожден от работы директора института ДКД и командирован на учебу в Высший коммунистический институт просвещения. Директорское место занял Н. А. Лялин [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 103а. л. 33; д. 104. л. 30,33].
Тем же решением бюро ЦК ВЛКСМ было изменено и руководство ВШ ДКД: Старосельский был освобожден от работы директора и направлен на заведывание педтехни-кумом, его место занял Махов, член президиума ЦБ ДКО, обучавшийся на ликвидированном к тому времени отделении ДКД АКВ имени Н. К. Крупской [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 69. л. 4]. Тогда же бюро ЦК ВЛКСМ обратился к культпропу [отделу культуры и пропаганды] ЦК
ВКП(б) с просьбой «выделить из числа окончивших аспирантуру ИКП [Институт красной профессуры, высшее учебное заведение ЦК ВКП(б), готовившее преподавателей общественных наук для высшей школы] товарища на работу зам. директора высшей школы ДКД» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 103а. л. 33]. Махов в 1935 г. был снят с должности директора ВШ ДКД за растрату [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 119. л. 87–100], на его место назначен Либерман [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 119. л. 10–11,43; д. 146. л. 13, 94] [М. М. Лидерман; упомянут как директор центральных курсов пионервожатых в Москве, потом как директор Дома вожатого].
НИИ ДКД недолго продержался без В. А. Зорина. 23 августа 1934 г. бюро ЦК ВЛКСМ, снова указав, что НИИ ДКД, «занимаясь разработкой отдельных теоретических вопросов, оторванных от текущей жизни пионерской организации не оправдывает своего назначения», приняло решение реорганизовать его «в центральный Дом вожатого [другая формулировка – центральный Дом деткомдвижения] <…>, придав ему чисто прикладное значение», «возложив на него чисто методическую помощь вожатому и отряду» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 124. л.158]; таким же образом должны быть реформированы аналогичные краевые, городские и прочие местные учреждения. Разработку теоретических вопросов детдвижения предлагалось передать органам Наркомпроса – АКВ, институту педагогики и др., где под контролем ЦБ ДКО работали бы «высококвалифи- цированные группы научных работников» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 124. л. 159]. Бюро ЦК ВЛКСМ выдвинуло ряд практических вопросов для разработки в ЦДВ в ближайшее время, среди которых были: работа с пионерами старшего возраста, с вожатыми звеньев, борьба пионеров за повышение успеваемости, организация любительских кружков при отряде, помощь вожатым в повышении квалификации, досуг детей в ЖАКТах зимой, зимние игры, общественная работа колхозных пионеров.
Численность штата Дома вожатого была определена примерно в 15 человек: из сотрудников НИИ ДКД оставались В. Г. Яковлев, М. Колчин, М. Л. Зак, Вибах, Б. Н. Белелюбский. Остальные были переведены на местную пионерскую работу. Несмотря на декларированное в документе положение «комплектование дома ДКД производить только за счет работников Москвы», бюро предложило отозвать в распоряжение ЦК ВЛКСМ для укрепления кадрами Дома вожатого М. Г. Гутермана из ВСФК [Всесоюзный совет физической культуры], Монзона [Э. С. Моносзона] из Горького, Гарика из Свердловска и Хаджиева из Баку; также бюро ЦК ВЛКСМ предложило ЦБ подобрать и включить в штат 5 человек наиболее опытных вожатых [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 124. л. 158–159; см. тж. оп. 23 д. 1091. л. 46]. Сведений о работе указанных лиц в Доме вожатого нам обнаружить не удалось.
В работавшую, как указано выше, с 1932 г. Высшую школу дет-комдвижения перешли заочные курсы пионерских работников (заочные курсы вожатых). Опираясь на единство локации и отчасти руководства, мы можем считать эти курсы преемником заочных курсов вожатых НИИ ДКД, в здании которого по адресу: Мертвый (Пречистенский) переулок, д. 8 в феврале 1934 г. и открылись эти заочные курсы [Информация, 1934]. Зам. директора по заочному обучению вожатых ВШ ДКД тогда же стал И. А. Фильцер, ответственным редактором курсов – Ф. Ф. Королев [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 96. л. 29, 53].
ВШ ДКД действовала до 1937 г., занимаясь подготовкой старших пионерских вожатых. Прошло восемь наборов в ВШ ДКД [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 80. л. 12; д. 132. л. 139–143; оп. 3. д. 124. л. 180–184; д. 134. л. 319–324]; восьмой набор, прошедший в мае 1936 г., был обозначен как московские курсы ЦК ВЛКСМ по подготовке старших вожатых пионеротрядов [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 145. л. 8,53–56] [отметим, что эти именно таким образом поименованные курсы не являлись ни восьмыми московскими губернскими курсами, прошедшими в 1928 г. [Фильцер, 1928], ни восьмыми всесоюзными центральными курсами, состоявшимися, по нашим сведениям, в 1932 г.]
В 1935 г. была предпринята попытка создать при Московской ВШ ДКД группу 15–20 ч. из числа окончивших лучших курсантов школы по подготовке преподавателей пионер-работы для областных и краевых курсов [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 132. л. 48]
В конце 1937 г. секретариат ЦК ВЛКСМ постановил считать «нецелесообразным дальнейшее существование центральной школы пионер- работников при ЦК ВЛКСМ с имеющимся контингентом слушателей [пионервожатых] <…>. Предрешить вопрос о реорганизации школы с расчетом, чтоб в ней вести переподготовку пионер-работников обкомов, крайкомов ЦК ЛКСМ национальных республик и горкомов» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 179. л. 147– 148,158,183] – то есть готовить не вожатых, а руководителей.
В 1940 г. было запланировано провести в центральную школу дет-комдвижения при ЦК ВЛКСМ (другая формулировка из этого же документа – центральные курсы при ЦК ВЛКСМ) два набора по 75 человек для подготовки руководящих кадров ДКД. Это был совершенно другой уровень подготовки кадров, чем в 1930-х гг., что явствует из того, что на обучение на первый набор этих курсов или школы по разверстке принимались комсомольские работники «с высшим педагогическим образованием, имеющие стаж работы с детьми на менее 1 года» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 278. л. 105, 106, 139, 140]. Как видим, без центрального учебного заведения по подготовке пионерских кадров обойтись было нельзя. Однако постоянные переформирования, характерные для тех лет, думается, весьма вредили процессу обучения.
Учреждения, аналогичные ЦД ДКД и ВШ ДКД, существовали в 1930-е гг. также в Харькове и в Закавказье, но данных о них мало. В этом плане интересна, например, история многочисленных переформирований учебного заведения по подготовке кадров ДКД, находившегося в 1930-х гг. в Одессе. Образованы эти всесоюзные курсы ДКД были, предположительно, в одно время с московской высшей школой ДКД; ориентированы были на подготовку национальных кадров и именовались «Всесоюзные курсы пионер-работников нацменьшинств в Одессе». В 1933 г. были переданы на бюджет НКП Украины и реорганизованы в Школу по подготовке пионервожатых «для сельрайонов Украины <…> и председателей райбюро ДКО для сельрайо-нов Средней и Нижней Волги, Татарии, ЦЧО и Горьковской области» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 83. л. 2, 3, 33–35; оп. 3. д. 124. л. 159]. В 1934 г. эта школа, тем не менее, имела статус центральной или всесоюзной школы кадров ДКД, располагая хорошей базой. К 1935 г. со времени основания учебного заведения прошло 5 выпусков. В 1935 г. школа ДКД была преобразована в «центральные курсы ЦК ВЛКСМ по подготовке и переподготовке руководителей районных пи-онер-организаций сельских районов» [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 116. л. 222, 282–286]. В 1936 г. эти центральные курсы были опять расформированы и опять переданы ЦК ЛКСМУ для подготовки пионервожатых [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 3. д. 161. л. 159; оп. 23. д. 1187. л. 121–123, 127].
Центральный Дом вожатого (вожатых) в Москве жил немногим спокойнее. 11 октября 1934 г. секретариатом ЦК ВЛКСМ было утверждено положение о Центральном Доме вожатого [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 23. д. 1091. л. 35–40]. Он, кстати, унаследовал всё имущество, принадлежавшее НИИ ДКД (здание, мебель, библиотека и проч.) [РГАСПИ. Ф.М–
-
1. оп. 4. д. 110. л. 39], несколько указанных выше сотрудников и некоторые его функции, что дает право ему считаться в известной степени преемником НИИ ДКД.
«Задачей Центрального Дома Вожатых является помощь вожатому в его работе с отрядом и звеном путем организации учебы вожатых, повышения их культурного уровня, обобщения лучшего опыта работы звена и отряда и распространения его по всему Союзу», повышение квалификации вожатых, обобщение и распространение лучшего опыта [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 110. л. 36– 39]. Центральный Дом вожатого издал немало методической литературы по практическим вопросам пионерской работы, эти издания были не раз перепечатаны местными домами вожатых в крупных городах и райцентрах.
Центральный Дом вожатого возглавляли последовательно М. М. Лидерман и П. В. Булгаков [РГАСПИ. Ф.М–1. оп. 4. д. 133. л. 23; д. 146. л. 13, 94]. Он действовал по крайней мере до 1936 г. [Вся Москва, 1936, с. 307], документов о его ликвидации нам обнаружить не удалось. К. С. Зыкова без ссылки на документы сообщала, что дома вожатого были закрыты в апреле 1936 г. [Зыкова, 1974, с. 173].
Заключение. Изучение истории учреждений и учебных заведений деткомдвижения в 1920-е – 1930-е гг. представляет немалый историко-педагогический интерес, отражая многие перипетии того неспокойного времени.
Думается, нельзя согласиться с мнением некоторых маститых авторов касательно того, что к началу 1930-х гг. в СССР сложилась система подготовки пионерских кадров разных уровней, разрушенная во второй половине 1930-х гг. Скорее, можно говорить лишь о попытках систематизировать, институировать процесс подготовки пионерских кадров разных уровней от вожатых отрядов до председателей областных, краевых и республиканских бюро ЮП. Мы полагаем, что о системе нельзя говорить в свете постоянных переформирований и реорганизаций, переименований, расширений и сокращений учебных учреждений, изменений как контингента обучающихся и обучающих, так и общих парадигм обучения кадров и исследовательского процесса. Все эти катаклизмы, сотрясавшие центральные учебные и научные структуры, прямо затрагивали и местные аналогичные учреждения.
Одними из важных характеристик системы, как пишет И. В. Руденко [Руденко, 2008, с. 29], являются многоуровневость и взаимодействие элементов. По нашим наблюдениям, в работе пионерских курсов разных уровней, особенно в содержательном плане, имели место разнобой и неорганизованность, практически отсутствовали преемственность и вертикальное взаимодействие.
НИИ ДКД часто был вынужден обучать в аспирантуре людей без высшего образования, стремясь за короткое аспирантское время охватить большой объем знаний по тео- рии марксизма, по педагогике, по
теории, истории и практике пионерской работы.
Постоянно менялось соответственно времени и содержание обучения. Программы, по которым шла подготовка и переподготовка пионерских работников разных уровней, были выработаны во второй половине 1920-х гг.; в начале 1930-х гг. они дополнялись в разных объемах изучением вопросов партийной политики и международного положения, подвергаясь немалым изменениям, отражающим ту же текущую политику, впитывая в себя тематику политических кружков, комсомольских курсов и совпартшкол, изменяясь до неузнаваемости. Динамика программ курсов и школ пионерских работников разных уровней может стать объектом самостоятельного историко-педагогического исследования. Наработки второй половины 1920-х гг., во многом берущие свое начало в традиционных учительских курсах, сохранились лишь в общей структуре программ курсов и школ, логично сочетая в себе теорию, методику и практику. Педагогический состав курсов и школ был, как правило, не слишком силен и разношерстен, что влекло за собой и низкий методический уровень преподавания; та же аспирантура НИИ ДКД за короткие и нервные три года не могла выпустить достаточное количество квалифицированных преподавателей.
Система в подготовке и переподготовке пионерских работников разных уровней, по нашему мнению, была выработана лишь в послевоенные годы; естественно, опыт 1920-х – 1930-х гг. был учтен и адаптирован к новым условиям.