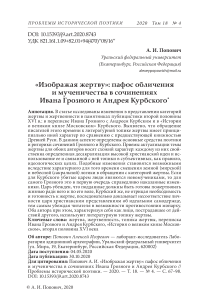"Изображая жертву": пафос обличения и мученичества в сочинениях Ивана Грозного и Андрея Курбского
Автор: Попович Алексей Игоревич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследованы изменения в представлении категорий жертвы и жертвенности в памятниках публицистики второй половины XVI в.: в переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским и в «Истории о великом князе Московском» Курбского. Выявлено, что обращение писателей этого времени к литературной топике жертвы имеет принципиально иной характер по сравнению с предшествующей книжностью Древней Руси. В данном аспекте определены основные средства поэтики и риторики сочинений Грозного и Курбского. Приемы актуализации темы жертвы для обоих авторов носят схожий характер: каждому из них свойственна определенная десакрализация высокой христианской идеи и использование ее и связанной с ней топики в субъективных, как правило, идеологических целях. Подобные изменения становятся возможными вследствие характерного для того времени смешения земной (мирской) и небесной (сакральной) логики в обращении с категорией жертвы. Если для Курбского убитые царем люди являются новомучениками, то для самого Грозного это в первую очередь справедливо наказанные изменники. Царь убежден, что подданные должны быть готовы пожертвовать жизнью ради него и по его воле, Курбский же, не отрицая необходимость и готовность к жертве, последовательно доказывает несоответствие личности царя христианским представлениям об идеальном самодержце, тем самым убеждая читателя в возможности противостояния монарху. Оба автора при этом, характеризуя себя как лицо, пострадавшее от действий другого, используют литературную топику жертвы.
Жертва, жертвенность, топика жертвы, переписка ивана грозного и андрея курбского,
Короткий адрес: https://sciup.org/147227226
IDR: 147227226 | УДК: 821.161.1.09+82.01+94(470)“08/16” | DOI: 10.15393/j9.art.2020.8743
Текст научной статьи "Изображая жертву": пафос обличения и мученичества в сочинениях Ивана Грозного и Андрея Курбского
Жертва: категория и художественный образ
Ж ертва и жертвенность — важнейшие категории в русской истории и культуре. Будучи созданы в многовековой, в т. ч. дохристианской, ритуальной практике, они адаптируются к актуальным проблемам времени и, вербализуясь1, вбирают в себя актуальное для времени содержание. В книжности Древней Руси на разных этапах коммуникативная и спасительная функция ритуала достраиваются через то или иное предназначение: метафорическое и идеализирующее, обличительное и уничижающее и т. д. При этом не все оттенки представлений о жертве, даже как о понятии или идее, могут быть вербализованы: в сфере ритуала и ощущений (эмоций) присутствует некоторое внетекстовое пространство. Материальный и идеальный миры сложно взаимодействуют, формируя «жертвенное поле» в пространстве текстов и семантике артефактов культуры.
С появлением христианства на Руси книжники, явно имевшие представление о дохристианской идее жертвы и о принятом в родовых обществах варианте самопожертвования, сталкиваются с новой, христианской реальностью и комплексом идей. Смену представлений можно проследить в границах книжности: выявление образно-сюжетной и риторической систем в художественном воплощении архаичной категории оказывается конструктивно при восстановлении контекстов времени (историко-культурного, личностно-биографического, авторско-стилевого и т. п.). Литература при этом работает в первую очередь с художественными категориями2. К таковым следует отнести риторическую по своей природе топику. Топос так или иначе отсылает к некоей уже готовой системе и тесно связан с другими ее элементами, С. С. Аверинцев представлял его как «инструмент абстрагирования, средство упорядочить, систематизировать пестроту явлений действительности, сделать эту пестроту легко обозримой для рассудка» [Аверинцев: 159].
Обращаясь к книжности XI–XIV вв., можно обнаружить как минимум два антиномичных представления о жертве: жертвоприношение как проявление «нечистого» материального мира, восходящее к язычеству, и добровольная духовная жертва (жертвенность) [Попович]. Оба направления отражают сложную семантику самого слова «жертва», за которым стоят как минимум две реалии. Если в первом случае речь, как правило, идет о топике совершенно определенного рода (упоминание жертвоприношений стало общим местом для обличений и характеристики нехристианского поведения и мировоззрения), то во втором случае дело обстоит сложнее, несмотря на частотность принципа imitatio Christi, описанного Т. Р. Руди в системе агиографической топики [Руди: 62].
Принцип imitatio Christi реализуется в нескольких мотивах: желании полного уподобления Христу, восприятии собственной смерти как уподобления страданиям мучеников Христовых, предсмертном прощении врагов [Руди: 68]. Однако подобный объединительный принцип, будучи доминантным для жанра жития, недостаточен для объяснения взятых в отдельности случаев использования топики imitatio Christi . Не упрощается ли литературный сюжет или индивидуально-авторское стремление при обобщении настолько разнородных фактов?
Крестная смерть Христа вписывается в более общую систему топосов, которую можно охарактеризовать как угодную Богу жертву, и это не только смерть, но и служение, духовная жертва3. Чаще всего книжники прибегают к теме жертвы для описания соответствующего подвига, однако даже факт уподобления Христу может по-разному эксплицироваться в архитектонике текста: от буквального повторения подвига (мученичества) и готовности к жертвенной смерти до авторских размышлений или значимого риторического элемента в системе аргументации и т. д.4 Случаи обращения к жертвенной смерти Христа, хотя и входят в топику imitatio Christi , могут быть описаны более детальным образом; в то же время необходимо учитывать, что жертва Христа осмысляется в памятниках разной жанровой природы.
Задачей данной работы является исследование особенностей и динамики топики жертвы в публицистических памятниках древнерусской литературы XVI в., когда тема жертвы начинает обсуждаться на принципиально ином уровне, касающемся не только собственно христианской аксиологии, но и мирских сфер жизни5. Связаны эти процессы с обособленным положением категории жертвы в культуре переходного времени: она в равной степени характерна как для сакральной небесной, так и для мирской земной логики и является своего рода необходимым связующим звеном между ними.
Репрезентативным источником этого времени, имеющим дело с категориями жертвы и жертвенности, являются публицистические сочинения Ивана Грозного и Андрея Курбского, реконструирующие нравственную атмосферу эпохи6. Исследователи не раз отмечали, что одной из ключевых тем посланий князя царю стало обвинение его в убийстве невинных людей, впоследствии, по убеждению Курбского, обретших статус новомучеников [Филюшкин: 74]. По сути, автор прибегает к топике imitatio Christi , однако с совершенно иными, чем создатели агиографических произведений, задачами. Этому же подчинена и его «История о великом князе Московском» (1570-е гг.). При всем многообразии исследований сочинений Курбского и Грозного7 они недостаточно изучены в аспекте собственно поэтики, в то время как в публицистике благодаря эмоциональному напряжению текста осваивались новые возможности жанра, открывались новые грани поэтики и воздействующей силы слова как такового [Лурье: 444–449].
Мученики или изменники: жертвы царя или предатели государства?
Буквально с первых строк первого послания Ивану Грозному Курбский обвиняет его в неправедных убийствах:
«Про что, царю, сильных в[о Израили побил] еси и воевод, от Бога данных ти на враги твоя, различными смертми разтор-гнул еси, и победоносную святую кровь их во церкв [ а ] х [ Божиях пр ] олиал еси и мученическими кровьми праги церковныя обагрил еси и на доброхотных твоих, душа своя за тя полагающих, неслых[ованные от] века муки и смерти и гонениа умыслил еси, изменами и чародействы и иными неподобными облыгаа православных <…>?» (здесь и далее курсив мой. — А. П .)8.
В этом пассаже тема жертвы заявляется Курбским в двух «перекрестных» направлениях. Первое заключается в обвинении царя в пролитии мученической крови «во церквах
Божиях», второе раскрывается через фразу «душа своя за тя полагающих», отсылающую к евангельскому «болши сея люб-ве никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя» (Ин. 15:13). Новомученики, о которых пишет Курбский, были готовы к добровольной жертве — гибели за царя. В гневе Грозный обвинил их в «непотребных» для православного человека злодеяниях, направленных в т. ч. против государя.
Упомянув «сильных во Израили», князь тем самым обвинил царя в истреблении лучших представителей русского народа, истинных православных мучеников, пожертвовавших собой ради Христа. Усиливая обвинения, Курбский включает в аргументацию собственную судьбу, пронизывая текст библейскими аллюзиями и призывая в свидетели чувства («совесть») и разум:
«[<…>И за] благаа моя воздал ми еси злаа и за возлюбление мое — непримирительную ненависть. Кровь моя, яко вода пролита за тя, [ вопиет на ] тя Богу моему . Богъ — сердцам зритель — во уме моем прилежне смышлях и совесть мою сведете-ля представлях, и исках, и зрех [смышленно] обращаася, и не свем себе, и не найдох в чем пред тобою виновата и согрешивша» ( ППК : 288).
А. И. Филюшкин в герменевтическом анализе посланий Курбского не учитывает, что князь затрагивает в этом высказывании тему, условно говоря, «жертвы за царя»: «Курбский здесь, с одной стороны, подчеркивает собственную праведность, с другой — сближает ее с жертвенностью праведников во имя Христово и тем самым поступки царя — с деяниями гонителей на христианство» [Филюшкин: 250]. Можно предположить, что Курбский дает своего рода иллюстрацию к процитированному выше фрагменту: он говорит о себе как о человеке, пострадавшем за царя («за тя»), но парадоксальным образом пострадавшем от него же. Сочетание «кровь вопиет к Богу» достаточно устойчиво для древнерусской литературы с начала ее появления9 — помимо семантики насильственной смерти, с учетом контекста Книги Бытия, подразумевается кровь Авеля, принесенного в жертву Богу собственным братом: «И рече Господь: что сотворилъ еси сiе? гласъ крове брата твоего вопiетъ ко мнѣ от земли» (Быт. 4:10) — и, соответственно, связано с идеей Божественного возмездия.
Курбский не только пишет о себе как о потенциальной жертве, но и напоминает царю о своих военных заслугах и ранениях — жертве во благо государя: «…паче же учащаем бых ранами от варварских рук в различных битвах. Сокрушенно же ранами все тело мое имею» ( ППК : 288). Он упрекает Грозного, что тому нет дела до его подвигов и страданий: «И тебѣ, царю, вся сиа ни во что же бысть» ( ППК : 288).
К концу послания Курбский объединит безвинных мучеников с теми, кто «заточен» или «прогнан» Грозным (как и он сам), — все они взывают к Богу и просят об отмщении, помня о «блаженстве» гонимых «правды ради» и имея в виду грех неблагодарности:
«Царю, не помышляй и не мудрствуй мысльми, аки уже погибших [ и избиенных ] от тебя неповинно, и заточенных, и прогнанных без правды. Не радуйся о сем, аки хваляся сим: раз-с е ченыя тобою у престола [ предстоят ] Владычня отомщения на тя просят , заточенныя же и прогнанныя тобою без правды от земля Богу вопиют на тя день и нощь! » ( ППК : 288).
Жанровая специфика переписки способствует появлению в литературе Древней Руси «голоса жертвы», точки зрения, в которой отчетливо проявляется идеологическая направленность (ср.: [Успенский, 1995: 19–29]). Переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского можно рассмотреть посредством сравнения двух противопоставленных по ряду параметров «жертвенных» позиций: и тот, и другой преследуют, в сущности, одни и те же цели: выставить себя жертвой перед противником и доказать, что один пострадал от неправедных действий другого. Задача в обоих случаях осложняется необходимостью не только доказать обратное, но и оспорить аргументацию противника, по причине чего текст преобразуется в скрытый диалог, вбирая в себя разноречивые аргументы.
Пальма первенства в споре принадлежит Курбскому: отталкиваясь от его аргументации, царь будет выстраивать собственную линию доказательств и опровержений. Первое, что делает Курбский, — он противопоставляет осознанное жертвенное поведение (готовность к героической смерти за царя и отечество10) и насильственную мученическую смерть. Причем последняя имеет для Курбского значение не в связи с благодатью, которая ожидает мучеников, а в связи с претерпеванием страданий от нечестивого царя, поскольку никто из них не хотел страдать подобным образом. Курбский в соответствии с мирской логикой отвергает жертву во имя несостоятельной личности государя — в один узел им связывается идеализация царя при проявлении Божественной воли в его поставлении и характеристика самой личности, обладающей или не обладающей качествами достойного монарха.
Князь делает все возможное, чтобы доказать, что Иоанн IV не подлинный христианский царь — на это нацелены бесчисленные риторические приемы (преимущественно «общие места»), к которым он прибегает. Среди них — обличение языческого и шире антихристианского принесения неправедных жертв (общее место, известное на Руси с первых веков христианства).
Для Курбского, как и для большинства православных книжников, использующих этот прием, не стоит вопрос о том, кому язычник приносит жертвы: несомненно, кумиру, идолу, в христианском контексте — дьяволу. Пьянство, гордыня, гнев и прочие грехи также маркируются как «нематериальные» жертвы губителю человечества. Однако Курбский не столько отдает должное риторике, сколько формулирует конкретную оценку.
Одно «темное» место в первом послании имеет непосредственное отношение к рассматриваемой теме:
«…умышляеши на христианский род мучительныя сосуды, па[че же наругаешися] попирающи аггельский образ, согласующим ти ласкателем и товарыщем трапезы, бесогласным твоим бояром и гу[бителем души твоей и] т е лу, и детьми своими паче ж Кроновых жерцов действуют» ( ППК : 288).
Образы «Кроновых жерцов» и «мучительных сосудов» (орудий) равноположены в тексте и призваны усилить обвинения царя и его окружения в нехристианском поведении через сравнение с «еллинскими» богами. Курбский последовательно доказывает, что убитые царем — мученики за веру, а сам государь руководим Антихристом в лице злых советников: «…не пригоже таким потакати, о царю!» (ППК: 289). Эта идея будет развита в «Истории» Курбского, где он назовет Грозного «новоявленным звѣрем»11.
Прославляя новомучеников, Курбский не может отнести себя к жертвам царя потому, что, в отличие от убитых, он бежал из страны и не претерпел «страсти». Но «точка зрения» жертвы для Курбского сопряжена не только со смертью — Курбский помещает себя в один ряд с теми, кого коснулись злодеяния царя, и трактует военные подвиги как страдания, что вызывает ответную иронию Грозного:
«Се бо есть воля Господня — еже, благое творяще, пострадати. А аще праведен еси и благочестив, про что не изволил еси от мене, строптиваго владыки, страдати и венец жизни наследити?»12.
В ответ Курбский сформулирует различие между смертью за праведного царя, у которого «власть от Бога», и смертью по вине и желанию неправедного монарха — последнюю он приравнивает к самоубийству: «Аще ли же кто прелютаго ради гонения не бегает, аки бы сам собе убийца»13. Курбский, отрицая измену, оправдывает свое бегство нежеланием совершить смертный грех самоубийства — дерзкая для своего времени мысль по отношению к царю. Для него важно доказать, что он, как и все «сильные во Израили», был готов пострадать за благое дело, — так князь демонстрирует свое соответствие требованиям христианской этики.
Иван Грозный, безусловно, понимал цели посланий Курбского, распознавал их литературную топику. Царю было выгоднее опровергать, иронизировать и издеваться над литературными приемами князя: полемика между царем и его бывшим боярином велась не только на идеологическом, но и на литературном уровне. Для первого послания Грозного характерно намерение опровергнуть аргументацию изменника в специфическом для него «кусательном» стиле14.
Грозный стремится вернуть трактовку действий князя к средневековому смирению перед властью, не признавая, что ситуация с самодержавием требует изменения и в поведении монарха. Он «погружает» себя в биографический и риторический контекст «православного истиннаго христи-янского самодержавства, многими владычествы владеющаго» и обличает Курбского как врага христианства: «…крестопре-ступнику честнаго и животворящаго креста Господня, и губителю хрестиянскому…» (ППГ: 13)15.
Государь упрекает Курбского в проявлении гордыни евангельской фразой: «Иже есть высокость в человецех, мерзость пред Богом» ( ППГ : 36) (ср.: Лк. 16:15). Помимо этого, царь «переносит» Курбского в язычество, возводящее себе кумиров, и приводит для аргументации обширные цитаты из «Слова на святая просвещения» Григория Богослова (см. об этом: [Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским: 395–396]):
«Подобно еллином иступив ума неистовишеся, бесному подо-бяся; по своей страсти тленных и изменных человек похваляеш, избирая, яко же еллини своих богов почтоша! <…> Яко же бо еллини неподобно скверных человек боги нарекоша тако и ты неподобно тленных человек мученики нарицаеш , и того ради подобает тебе в праздники мучеников своих резания, и страдания, и плясания, и гудения приносити. Яко же еллини, тако же и тебе подобает; яко же они пострадаша, тако и тебе в праздники мучеников своих подобает страдати! » ( ППГ : 36).
В данном контексте Курбский изображен язычником, приносящим жертвы своим идолам, — фактически Грозный сопоставляет с ними православных людей (по Курбскому, новомучеников). И хотя князь причисляет убиенных царем к мученикам вне процесса канонизации, отнесение их к языческим идолам характеризует Грозного как человека, несколько заигравшегося понятиями.
Грозному важно опровергнуть тезис о мученичестве и жертвенности тех, кого он считает изменниками, для этого он прибегает к известному риторическому приему — переадресовывает обвинения, используя основные тезисы Курбского против него. Так, он уверен, что князь, сбежав в чужие земли, сам будет проливать христианскую кровь и осквернять святыни, хотя бы в замыслах, ведомых Богу и государю. Усиливая эффект воздействия на читателя, Грозный использует ритмическую прозу, характерную для ораторских текстов:
«Аще ти с ними воеватися, тогда ти и церкви разоряти, и иконы попирати и крестиян погубляти;
аще и руками где не дерзнеши, но мыслию яда своего смертоноснаго много сия злобы сотвориши» ( ППГ : 13).
Если Курбский говорил о собственной готовности пострадать за благое дело, то Грозный обращается к Первому посланию апостола Петра с целью «уличить» Курбского в несоответствии этим идеалам: «Се бо есть воля Господня — еже, благое творяще, пострадати» ( ППГ : 14) (ср.: «Лучше бо есть благое творящымъ, аще хощетъ воля Божiя, пострадати, нежели зло творящымъ» — 1 Пет. 3:17).
Грозный категорически отрицает нравственные достоинства изменников, переводя мученичество в наказание за преступления:
«Како же не стыдишися злодеев мученики нарицати, не раз-суждая, за что кто страждет ? Апостолу вопиющу: “Аще кто незаконно мучен будет, сиречь не за веру, не венчается”; божественному убо Златоусту и великому Афонасию во своем исповедании глаголющим: мучими бо суть татие, и разбойницы, и злодеи, и прелюбодеи: такови убо не блажени, понеже грех ради своих мучими бысть, а не Бога ради » ( ППГ : 18).
Подрывая аргументацию Курбского, он стремится не только дискредитировать идейную составляющую первого послания, но и обнажить «порочность» литературных приемов противника. Во многом Курбский брал за основу агиографический канон и следовал высокому стилю, наполняя текст сакральными образами и риторикой (особенно ярко это проявится в «Истории»). Грозный стремится разрушить сакральный смысл его текстов и делает это, будучи талантливым книжником, с многочисленными ссылками на Священное Писание. В то же время царь подробно перечисляет обвинения Курбского, дословно его цитирует, но опровергает их едва ли не одним аргументом: «…то еси писал и глаголал лжею, яко же отец твой диявол научил тя есть» (ППГ: 25), — уходя от логического рассуждения и характеризуя его высказывания как порождение дьявола.
Кроме того, Грозный воссоздает картину собственных страданий, особенно акцентируя детские переживания (наиболее уязвимую, детскую жертву) и объясняя свое спасение заступом высших сил, включая родовое благословение:
«Се ли разумевая “супротив”, яко вашему злобесному умышле-нию тогда, Божиею милостию и пречистые Богородицы заступлением, и всех святых молитвами, и родителей своих благословением погубити себя не дал есми?» ( ППГ : 16)16.
«Кольми же паче наша кровь на вас вопиет к Богу, от вас самех пролитая: не ранами, ниже кровными потоки, но многими поты…» ( ППГ : 42)17.
Также царь обвиняет изменников в желании убить его сына:
«И се ли убо доброхотны есте и души за мя полагаете, еже, подобно Ироду, ссущаго млеко младенца моего смертию пагубною хотесте света сего лишити, чюжаго же царя в царство ввести? Се ли за мя душу полагаете и доброхотствуете?» ( ППГ : 25).
Вспоминая царя Ирода, по евангельской легенде погубившего Вифлеемских младенцев с целью убиения Сына Божия, Грозный обвиняет противников в противодействии власти от Бога, стремлении к самозванству (ввести «чюжого царя» вместо законного «от Бога»).
В этом очевидно намерение Грозного выставить себя перед Курбским пострадавшей стороной, входящее в собственно литературные задачи Грозного. В свою очередь Курбский не уступает в этом Грозному по тем же «литературным» причинам. В. В. Калугин отмечает, что «Курбский настолько вжился в литературный образ, что потребовал во втором письме Грозному сострадания к себе» [Калугин: 142]. Исследователь связывает это с возмущением князя в связи с несоблюдением правил эпистолографии (см.: [Калугин: 142–143]). Думается, что у Курбского были и другие причины требовать от Грозного сострадания — это требование было обусловлено осознанием себя пострадавшей стороной.
Во втором послании Курбскому Грозный продолжит тему бесчисленности собственных страданий: «Да много того. Что мне от вас бед, всего того не исписати»18. В ответ на упреки Курбского в «нечистом» поведении он обвинит своих врагов в том, что его разлучили с женой, отсюда и «Кронова жертва»:
«А и з женою вы меня про что разлучили? Толко бы вы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было» ( ВПГ : 104).
Царь и сам словно требует сострадания к себе — язык описания собственных страданий через категорию жертвы схож с языком Курбского, несмотря на противоположность позиций. При этом Грозный хорошо понимает, на что намекает противник. Как христианин, царь осознает извечную греховность бренного человека, но стремится по возможности смягчить ее степень и не распространять ее на царский венец: он категорически не согласен со сравнением с языческими царями, по вине которых появлялись мученики за веру.
Жертвенность власти и жертва власти
Можно согласиться с мнением Д. М. Буланина, что «спор Курбского с Грозным в значительной степени был беспредметным. Оппоненты исходили из одного и того же представления об идеальном самодержце, представления, ориентированного на совокупность византийских и иноземных образцов и примененного для раскрытия новой провиденциальной роли Московского царства. Спор сводился к дебатам о том, насколько Грозный соответствовал в прошлом и в настоящем аксиоматичной для обоих корреспондентов парадигме богоизбранного правителя» [Буланин: 89–90]. В то же время Курбский и Грозный явно добавляют к идеальному образу богоизбранного правителя собственные оценки. Грозный убежден, что царь в своем поведении должен соответствовать времени: «Како убо, по твоему безумному разуму, единако быти царю, а не по настоящему времени?» ( ППГ : 18).
В частности, Иван Грозный соответствующим образом сопоставляет церковную власть и царскую, их различие диктует иной тип поведения и не может оцениваться в одном ключе:
«Но ино убо еже свою душу спасти, ино же многими душами и телесы пещися; ино убо есть постническое пребывание, ино же во общем житии сожитие, ино же святительская власть, ино царское правление. <…> Се убо разумей разньство постничеству, и общежительству, и святительству, и царству. И аще убо царю се прилично: иже биющему в ланиту обратити другую?» (ППГ: 24).
Общехристианский постулат о спасении через смирение оказывается несущественным для государя при исполнении им «царского правления». Не подводит ли здесь Грозный к идее о том, что на царя вообще не распространяется необходимость жертвенного смирения и т. п.?19
По мнению А. В. Каравашкина, «жертва царя, с точки зрения Грозного, состоит не только в том, что он принимает на себя ответственность за своих подданных и готов расплачиваться за грехи “мира” на Страшном суде, но и в том, что царь вольно или невольно должен нанести ущерб своей душе и, возможно, пожертвовать личным спасением “царствия ради”» [Каравашкин, 2000: 187–188]. Вряд ли можно согласиться с тем, что Грозный видит предназначение царя в смирении и жертве. Необходимо различать активную и пассивную роли (мучителя и жертву), внутренние и внешние проявления жертвы: Грозный убежден, что его окружают враги, и ему предназначено противостоять их угрозам, быть наказующей силой. В своем понимании собственных страданий как жертвенности Грозный несколько удаляется от христианского ее понимания, о чем он говорит сам, когда сопоставляет священство и царство. Если внутренне, в соответствии с небесной логикой, когда речь идет о спасении души, царь готов к жертвенности, то касательно действий правителя царь предпочитает карать, а не смиряться.
Несколько раз Грозный обвиняет изменников, якобы готовых в прошлом пострадать за него, но на деле желавших его смерти или, например, воцарения брата отца (Андрея Ста-рицкого):
«И тако ли душу за нас полагают, еже нас хотели погубити, а дядю нашего воцарити?» ( ППГ : 27).
Русский царь формулирует смысл прогосударственного (процарственного) значения готовности пострадать, заявляя
Курбскому, что в их время нет мучеников за веру и страдания изменников — это наказание за преступление, и иного не дано, при этом он разделяет внешнюю преданность и внутренние убеждения. Лживость внешнего поведения имеет результатом «казнь»:
«… мучеников же в сие время за веру у нас нет 20; доброхотных же своих и душу за нас полагающих истинно, а не лестно, не языком глаголюще благая, а сердцем злая собирающе, не пред очима собирающе и похваляюще, а вне — расточяюще и укаряюще <…> мы того жалуем своим великим всяким жалованием; а еже обрящется в сопротивных, еже выше рехом, тот по своей вине и казнь приемлет » ( ППГ : 26).
Приведенные высказывания государя не соответствуют концепции «мучителя» во имя царства , предложенной в работе А. В. Каравашкина и заключающейся в том, что царь хочет поспособствовать через наказание искуплению грехов своих подданных, в т. ч. их «самовольства»: «Богоизбранный государь получает особые права, он не только заботится о чистоте веры, но и должен сдерживать “самовольство”, становясь своеобразным исполнителем казней Божиих и главным защитником высшей справедливости. И здесь дело не в том, что царь должен обуздать чье-либо самоопределение, а в том, что он обязан направить его на стяжание жизни вечной» [Каравашкин, 2000: 182].
Скорее, нужно говорить о том, что царь, будучи волен распоряжаться жизнями своих подданных, предпочитает не только видеть их готовыми пострадать за отечество, но и твердой рукой направить их на это под страхом наказания:
«Се убо, яко же выше рех, сего ради повинныя прияша казнь по своим винам, а не яко же ты лжеши, неподобне изменников и блудников нарицаеши мученикы и их кровь победоносну и святу, и нам супротивных сильными нарицая; и отступников наших воеводами нарицаеш, доброхотство же их и души их по-лагания за нас…» ( ППГ : 34).
Грозный спекулятивно искажает смысл угрозы Курбского о «вопиющей крови» за преступления, выстраивая логику страдания за «отечество» как обязательного долга:
«И аще кровь твоя, пролитая от иноплеменных за нас, по твоему безумию, вопиет на нас к Богу, и еже убо не от нас пролитая, тем же убо смеху подлежит сия, еже убо от иного пролитая и на иного вопиет, паче же и должная отечеству сие совершил еси ; аще бы сего не сотворил еси, то не бы еси был християнин, но варвар; и сие к нам неприлично» ( ППГ : 42).
В прогосударственную идеологию Грозного вписывается идея жертвы за царя, за государство, в конечном счете — за христианский «народ». Эта идея имеет глубокие христианские корни и требует от подданного не только верности, но и готовности пострадать «не токмо до крови, но и до смерти»:
«На род же кристиянский мучительных сосудов не умышляем, но паче за них желаем противо всех враг их не токмо до крови, но и до смерти пострадати» ( ППГ : 46).
Это высказывание вносит в первое послание идею готовности царя пожертвовать собой. О ней достаточно подробно писал А. В. Каравашкин [Каравашкин, 2000: 183–204], упомянувший о предыстории идеи и ее распространенности в царском окружении. В частности, Вассиан Рыло призывал Ивана III к подвигу в послании на Угру21, а в одной из боярских грамот говорится:
«…мы видимъ своего благочестиваго государя во всѣх благихъ сiяюща, и милость его къ народу христiанскому такова, не токмо трудомъ и попеченiемъ и промысломъ персоны своея, но гдѣ доведетца за православiе и крови своея и главы своея положити не отмещетца…»22.
Иногда Грозный обсуждает в одном и том же контексте мученичество и жертву за отечество, сознательно разделяя два явления и отдавая предпочтение второму. Эта идея Грозного не была новаторской, но изначально имела связь с понятием «Русская земля», корни которого нужно искать в родовом праве. Царь, осознавая или не осознавая, привносит к этому мотиву дополнительный оттенок, что выражается в использовании местоимений: когда царь говорит «душу свою за нас полагают», он не всегда имеет в виду жертву во имя христианского народа или государства — можно предположить, что он имеет в виду самого себя:
«И тако ли душу свою за нас полагают, еже убо душу нашу желают от мира сего на всяк час во он век препустити?» ( ППГ : 29).
Понимание истоков этих идей Грозного требует дополнительных изысканий, но так или иначе можно говорить об очередном этапе формирования новой государственной ми-фологии23. Типологически сходные концепции жертвы царя и жертвы за царя обнаруживаются в Западной Европе эпохи Высокого Средневековья [Канторович: 340–342, 361–362, 370].
В «Кратком отвещании на зело широкую епистолию князя великого Московского», являющемся своеобразным «литературным манифестом» писателя-западника [Калугин: 64–71], [Лихачев, 1987: 181], будет продолжена линия первого послания: Курбский, уповая на Второе пришествие, верит в свое нахождение рядом со всеми мучениками и утверждает подлинное судилище, даже не действия, а совести:
«…тогда, егда Христос приидет судити, и возглаголют со многим дерзновением со мучащими или обидящими их, иде же, яко и сам веси, не будет лица приятия на суде оном, но кождому человеку правость сердечная и лукавство изъявляемо будет, вместо же свидетелей самаго кождаго свойственно совести вопиющей и свидетельствующей»24.
По наблюдению А. И. Филюшкина, во фразе Курбского «смирившемуся уже до зела» присутствует утверждение духовного подвига, превышающего царский: «…князь противопоставляет свое смирение — несомненную добродетель — гордыне царя» [Филюшкин: 306]. По сути, речь идет о поиске Курбским в своей биографии духовной жертвенности:
«…ко мне, человеку, смирившемуся уже до зела, в странстве, много оскорбленному и без правды изгнанному, аще и многогрешному, но очи сердечные и язык не неученный имущу…» ( ВПК : 101).
В третьем послании Грозному Курбский напишет в ответ на обвинения в измене и клятвопреступлении:
«А еже пишеши, имянующе нас изменники, для того, иже есмя принужденны были от тебя по неволе крест целовати <…> аще кто по неволе присягает или кленется, не тому бывает грех, кто крест целует, но паче тому, кто принуждает, аще бы и гонения не было» (ТПК: 108).
А. И. Филюшкин обращает внимание на семантику процедуры присяги, крестоцелования: «При клятве на кресте проявлялась и другая его семантика — соединение в данном символе высшего с низшим, жизни и смерти. Для православного человека решающее значение в данной клятве имело то, что крест — это символ мук Спасителя, искупившего ими человечество от греха. Тем самым, нарушая столь важную клятву, клятвопреступник предавал искупительную жертву Иисуса» [Филюшкин: 400]. В послании дискредитируется ритуал крестоцелования, носящего недобровольный характер.
В XVI в. рассуждения о присяге были довольно частыми, во многом «сформировалось представление о том, что, целуя крест государю, подданные “отдают” ему свои “души”: государь отвечает за их спасение, а измена царю “губит душу” человека» (см.: [Курбский: 639]). В «Истории» Курбский говорит об опричниках как о связавших себя клятвой гонителях христиан:
«Кто слыхал от вѣка таковые, иже Христовым знамением кленущесь на том, да Христос гоним будет и мучим? И на том крестьное знамение целовати, да церковь Христова растерзает-ца различными муками?» ( ИК : 184).
Для Курбского, как и для многих его современников, оказывается важной архетипическая идея жертвенности царя в борьбе с врагами:
«И аще погибают царие или властели, яже созидают трудные декреты и неудобь подъемлемые номоканоны, кольми паче не токмо созидающе неудобь подъемлемые повеления или уставы з домы погибнути должны . Но во яковых сии обрящутся, яже пустошат землю свою и губят подручных всеродне, ни сосущих младенцов не щадяще, за них же должни суть властели, кождый за подручных своих, кровь свою против врагов изливати… » ( ТПК : 117).
Однако Курбский намекает здесь и на то, что царь должен ответить за то, что погубил такое число людей, являющихся христианами, а не врагами. В определенном смысле князь проводит здесь идею расплаты царя жизнью за грехи. В том же третьем послании Курбский вспоминает историю взятия Иерихона Иисусом Навином и вполне недвусмысленно по отношению к Грозному приводит пример Ахара (Ахана), нарушившего запрет: «…единаго же ради греха Ахарова, егда Господь прогневался на весь Израиль…» (ТПК: 114) — за грехи царя, по мнению Курбского, страдает весь русский народ. С той же мыслью он вспоминает наказание Израиля за грехи детей священника Илия.
Обличение царя и прославление новомучеников
Глубокое убеждение Курбского в высказываемых в посланиях царю мыслях подтверждается их развитием в объемном сочинении «История о делах великого князя московского». Здесь автор продолжает тему мучений целого народа:
«…мучити повелѣл оных, ни единаго, ни дву, но народ цѣл. Их же имян, тѣх неповинных, яже в тѣх муках помроша, множества ради исписати невозможно» ( ИК : 136).
В «Истории», как и в третьем послании, Курбский характеризует род царя как «издавна кровопивственный» ( ТПК : 109), а также формулирует концепцию «двух Иванов» (благочестивого и «развращенного»), показывая не только свое, но и всеобщее удивление перед катастрофической переменой:
«Зело аз о сем удивляюся и все сущие, имущие разум, наипаче же те, которые пред тем знали тя, когда в заповедех Господних пребывал еси <…>. А ныне во якую бездну глупства и безумия развращения ради прискверных маньяков твоих совлечен еси и памяти здравы лишен!» ( ТПК : 113) .
Курбский будет неоднократно призывать Грозного возвратиться к прежнему образу через покаяние и «разум»:
«Помяни первые дни и возвратися. Поки нагою главою без-студствуешь сопротив Господа твоего? Або еще не час образу-митися и покаятися, и возвратитися ко Христу?» ( ТПК : 115).
Части «Истории», подчиненные разнородным задачам, ориентируются на разные жанры25: хронику, историю (как рассказ о прошлом), мартирий, поучение, биографию, мемуары, однако очевидна цельность этого памятника, обусловленная целью создания (см.: [Ерусалимский, 2015]). Если первая часть «Истории» в основном посвящена «первому» Ивану, то вторая часть озаглавлена Курбским как «История новоизбиенных мучеников». Он обращается здесь к популярному в западноевропейской агиографии жанру мученического жития и создает своеобразный мартиролог [Калугин: 182–204].
Курбский использует словесные формулы, характерные для житийной литературы о мучениках: «…яко агнцы неповинно заколены еще в самом наусии» ( ИК : 22); «…усечению главы своея святые» ( ИК : 142); «…сего ради приими души наши в живодателные руце твои, Господи», «смерть вкусил от мучителя неповинне» ( ИК : 158); «Его ж измлада возлюбил, за Него ж и на старость пострадал» ( ИК : 178).
Помимо того что Курбский создает своеобразный мартиролог, он пишет своего рода «антижитие» (термин Д. С. Лихачева) Ивана Грозного, и оба эти приема работают на создание образа неправедного правителя. Курбский стремится не только вызвать жалость к жертвам и прославить новомучеников, но и обличить злодеяния царя, поэтому он сравнивает Грозного с «древними мучителями» — Иродом, Фокой, Нероном и др. На страницах «Истории» представлено бесчисленное множество мученических смертей. И если в их создании и участвуют те или иные агиографические топосы, то не потому, что автор пишет множество житий одновременно, а потому, что они отвечают оценке злодеяний царя.
Как автор Курбский берет на себя функцию судьи и подводит к идее о Страшном суде, на котором он будет очевидцем, а его «История» станет важным свидетельством, поскольку в ней перечислены многие грехи Грозного и обозначены его жертвы.
Эсхатологические настроения Курбского были присущи и его раннему творчеству26, однако с наибольшей силой они выразились в «Истории» и других его поздних трудах (например, в предисловии к переводу из Иоанна Златоуста — «Новому Маргариту»). В. В. Калугин считает, что Курбский, планировавший перевести некоторые труды Иоанна Дамаскина, заимствовал из «Богословия» образ царя-мучителя, развивающийся «в соответствии с эсхатологическим учением о приходе в мир Антихриста», и «неповиновение Грозному принимало характер священной войны с Антихристом» [Калугин: 177–178].
Пафос сочинения Курбского определяется по-разному. Сам автор называет рассказ о мучениках трагедией: «…прегор-чайшие тое и жалостные ко слышанию трагедии», — снабдив это место греческой глоссой: «Трагедия сирѣчъ игра плачевная, яже радостию начинаеться и зѣло многими бедами и скорбми скончеваеться» ( ИК : 148).
А. В. Каравашкин уточняет, что «состояние мученичества воспринимается Курбским не столько радостно, просветленно, с упованием на торжество правды, сколько мрачно, с надрывом и проклятиями. Подвиг мученика здесь трагичен, лишен того жизнеутверждающего пафоса, который он зачастую приобретал в средневековой литературе» [Каравашкин, 2000: 332]. В то же время трагедийность жертвы и мученичества для Курбского как ортодоксального православного книжника явно не конечна. Курбский прославляет новомучеников, очутившихся в раю:
«О, преблаженнии и достохвальные святые мученики, ново-избиенные от внутренняго змия! За добрую совесть вашу пострадаете, и мало здѣ претерпѣвше и очистившеся прехвалным сим крещением, чисти к пречистейшему Христу одоидосте мзду трудов своих восприяти! » ( ИК : 216).
Конечно, Курбский не склонен изображать целиком смиренное принятие смерти, и это отразилось на мрачной атмосфере «Истории» и посланий Грозному: Курбский постоянно говорит об отмщении и предсказывает наказание царя на Страшном суде. Но в то же время он акцентирует святость новомучеников и их блаженство в раю. Пафос посланий Курбского царю и «Истории» заключается в надежде, что жертвы окажутся ненапрасными тогда, когда Грозного будет судить Господь, и Курбский в этом практически не сомневается27.
Грозный выступает принципиально против такого учительства: «Почто ж и учитель ми еси, душе моей и телу моему? Кто убо тя постави судию или владателя надо мною?» ( ППГ : 19). Не лишним будет напомнить, что Грозный обличал Курбского и за то, что тот считал, что будет участвовать в спасении мира рядом с Господом:
«И много слепотствующия ради твоея злобы не можеши истинны ведети: како мняй стояти у престола владычня и повсегда со аггелы служити, и своими руками агнец жремый закалати за мирское спасение сподобися , и сия вся поправшым вам с своими злобесовскими советники, на нас же своими злолукавыми умышлении многая томления подвигосте?» ( ППГ : 15).
В определенной степени Курбский считает себя жертвой наравне с другими мучениками. Это удалось проследить на примере переписки с Грозным и «Истории» — памятнике, обладающем элементами автожития [Васильев: 128–131]. Курбский возводит себя в ранг мученика не столько для того, чтобы вызвать к себе жалость как к жертве, сколько в целях нравственно уничтожить противника. Он не готов смиренно простить Грозного и, погружая себя в мученический контекст, своими сочинениями преодолевает молчание жертвы и невозможность сопротивляться.
В. К. Васильев отмечает сложность ореола святости в XVI в., когда «в русской культуре оформляется и неофициальная точка зрения на святость. Не русская церковь канонизирует убиенных мучеников, и не мирские власти добиваются признания чьей-либо святости, а вне и вопреки позиции государственной власти святыми признаются пострадавшие от нее» [Васильев: 143]. Думается, дело не столько в оформлении неофициальной точки зрения на святость, сколько в меняющемся отношении к сакральным христианским категориям как таковым: обсуждение их выходит на другой уровень, не остаются в стороне от этого Иван Грозный и другие книжники XVI в.
Так, в «Житии митрополита Филиппа» герой говорит царю: «О царю! Мы убо приносимъ жертву Господеви, а за олтаремъ неповинно льется кровь християнская, и напрасно умира-ютъ»28. М. М. Кром упоминает утешительное послание старца Иосифо-Волоколамского монастыря Фотия вдове убитого Грозным князя Ивана Ивановича Кубенского: «Господь Бог благоволением своим и человеколюбием своим государя князя Ивана аще и горкою смертию скончял, но кровию мученическою вся грехи его омыл…» (цит. по: [Кром: 318]).
Важен в связи с этим вывод В. В. Калугина, который во многом еще только предстоит иллюстрировать при более точечном анализе творчества Курбского: «Под его пером наметилось превращение жития в историко-биографическое повествование, прославляющее мучеников не столько религиозной, сколько политической идеи» [Калугин: 204].
В сочинениях Курбского и Грозного наблюдается причудливое сочетание старых и новых приемов топики, когда «общие места» древнерусской книжности начинают использоваться в идеологических целях. Вряд ли приходится иметь дело с искажением понимания жертвенного подвига, однако обоих авторов объединяет субъективность в обращении с категорией жертвы.
Можно предположить, что иное, по сравнению с предшествующими эпохами, использование категории было связано с общим для XVI в. подъемом гуманистической мысли. А. И. Клибанов так скажет об этом явлении: «Духовная история русского общества, выдвинув еще в первой половине XVI в. проблему самоценности человека, страстно дебатировавшуюся представителями всех общественных кругов, ее сторонниками и противниками, опережала ход социальноэкономического развития страны» [Клибанов: 278].
И Грозный, и Курбский обращаются в своем творчестве к проблеме ответственности личности, в понимании действий, мыслей и чувств которой не последнее место они отводят категории жертвы не как сугубо религиозному конструкту и даже не как напоминанию о жертве Христа, а как тому, что может случиться в конкретный момент с каждым конкретным человеком. Земная и небесная логика вступают в некоторое противоречие. Курбский нередко обращается к предательству Грозного в земном мире, однако предпочитает использовать религиозную логику ответственности личности за грехи. Царь, как правило, дает собственную «камеру обскура», возвращая читателя к воле Бога, без которой ничего не происходит, а главный исполнитель воли — он сам, однако в этом также проявляется спекулятивная мирская логика Грозного.
Действительно, сочинения Ивана Грозного и Андрея Курбского вступают в область «конфликта интерпретаций» [Каравашкин, 2020]. Жертва для Курбского всегда достойна жалости, это трагедия, но ему не чужда тема искупления и надежда на спасение. Автор использует образ жертвы для аргументации и усиления читательского эффекта, при этом в «Истории», помимо оценок и риторики, есть сюжет, и топика жертвы влияет на его развитие. Курбский не намерен находиться на положении безвольной жертвы, по его мнению, это гибельно и равно самоубийству. Риторика в его случае нормативна, он следует книжному канону, но оценка в проанализированных сочинениях подчиняет себя риторику. Так, она подчиняет себе топику жертвы, привнося в нее малораспространенное в древнерусской литературе до этого времени применение к характеристике царя-мучителя и его жертв.
Курбский признает страдания во имя отечества, однако не смешивает их с террором. Грозный, опровергая его аргументацию, по-своему интерпретирует необходимость жертвовать во имя государства, если не профанируя идею жертвы за отечество, то сильно подрывая ее сакральный контекст тем, что невольно переводит высокую идею на политико-идеологический уровень. Царь находит оправдание террору против «изменников» и для их уничижения использует все доступные ему литературные приемы, опровергая аргументы Курбского и оборачивая его обвинения против него.
Авторы создают подчеркнуто публицистические произведения, приспосабливая поэтику предшествующей литературы Древней Руси под свои цели. В их творчестве категории жертвы и жертвенности приближаются к свободе толкования: их использование в конце XVI в. становится возможным во все большем числе контекстов и для все большего числа нужд, не в последнюю очередь, литературных.
Список сокращений
БЛДР — Библиотека литературы Древней Руси
СККДР — Словарь книжников и книжности Древней Руси ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть в Британии и России в эпоху перемен (XVII–XVIII вв.)»).
-
1 Вербализацию этих категорий можно проследить, начиная с ранних памятников древнерусской письменности, однако датировать представления о жертве вряд ли возможно: настолько глубокие корни они имеют как в общечеловеческой, так и в славянской культуре.
-
2 Гораздо менее разработанным аспектом в исследованиях, посвященных жертве и жертвенности в культуре, остается функционирование этих категорий и связанных с ними тем, мотивов, «общих мест», понятий и т. п.: до сих пор наука не располагает более или менее целостной картиной представлений человека того времени. Картина эта может быть сложена из частей целого, категорий, подобно предложенной Д. С. Лихачевым концептосфере [Лихачев, 1997], и в то же время, несмотря на присущую ей целостность, эту картину следует рассматривать, учитывая внутреннюю динамику и движение на оси времени.
-
3 Ср.: «Молю убо васъ, братiе, щедротами Божiими, представите тѣлеса ваша жертву живу, святу, благоугодну богови, словесное служенiе ваше» (Рим. 12:1).
-
4 Проследить неоднозначность такого выделения топики можно и на уровне словесных формул: библейский текст может цитироваться выборочно, книжник также волен отсылать читателя к разным событиям из жизни Христа и мучеников.
-
5 Достаточно сравнить с ситуацией Нового и Новейшего времени, когда понятие и идея жертвы охватили самые разнообразные сферы жизни человека.
-
6 Идеологическая атмосфера террора второй половины XVI в. становилась предметом осмысления в работах Р. Г. Скрынникова [Скрынников], И. Мадарьяги [Madariaga], Ч. Гальперина [Halperin].
-
7 Подробный обзор представлен в словарных статьях: [Лурье, Роменская], [Гладкий, Цеханович], [СККДР: 182–192, 236–246].
-
8 Первое послание Курбского Ивану Грозному в сборнике конца XVI — начала XVII века / подгот. Б. Н. Морозов // Археографический ежегодник за 1986 год / отв. ред. С. О. Шмидт. М.: Наука, 1987. С. 287. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения ППК и указанием страницы в круглых скобках.
-
9 В памятниках Борисоглебского цикла (XI–XII вв.) этими словами Ярослав на поле битвы со Святополком призывает месть Бога.
-
10 Явление, которое было широко распространено в воинской среде. Курбский при этом был полководцем и говорил совсем не о гипотетическом страдании.
-
11 Курбский А. М. История о делах великого князя московского / изд. подгот. К. Ю. Ерусалимский. М.: Наука, 2015. С. 136. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения ИК и указанием страницы в круглых скобках.
-
12 Первое послание Ивана Грозного Курбскому // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подгот. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. М.: Наука, 1981. С. 14. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения ППГ и указанием страницы в круглых скобках. Грозный дважды повторит эту мысль, в другом варианте она выглядит так: «Аще праведен и благочестив еси, по твоему глаголу, почто убоялся еси неповинныя смерти, еже несть смерть, но приобретение?» ( ППГ : 14).
-
13 Третье послание Курбского Ивану Грозному // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подгот. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. М.: Наука, 1981. С. 108. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения ТПК и указанием страницы в круглых скобках.
-
14 О литературном стиле Грозного см. подробнее: [Шмидт], [Калугин: 225–235], [Лихачев, 1981: 183–202].
-
15 Это же происходит и далее по тексту. См.: ( ППГ : 24–25).
-
16 Ср. схожие формулировки в Послании и далее: «И якова они бо от бесов пострадаша, таковая аз же от вас пострадах» ( ППГ : 17) (о Курбском, Сильвестре и Адашаве); «но в будущем веце хощу суд прияти, елико от него пострадах душевне и телесне» ( ППГ : 33) (об Адашеве).
-
17 Комментаторы отмечают, что «ссылка на “слезы” и “поты” как на жертву, не менее дорогую, чем кровь, заимствована царем из “Просветителя” Иосифа Волоцкого» [Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского: 400].
-
18 Второе послание Ивана Грозного Курбскому // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подгот. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. М.: Наука, 1981. С. 104. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения ВПГ и указанием страницы в круглых скобках.
-
19 О царской харизме, поведении Ивана Грозного и осмыслении им собственной личности существует обширная литература: [Hunt], [Успенский, 1998].
-
20 Об этом же царь говорит выше: «Победоносные же святыя крови в своей земле в нынечнее время ничьея явленно, не вемы» ( ППГ : 26).
-
21 Послание на Угру Вассиана Рыло / текст подгот. В. И. Ванеева, пер. О. П. Лихачевой, комм. Я. С. Лурье // БЛДР. СПб.: Наука, 1999. Т. 7. С. 386–399.
-
22 См.: [Каравашкин, 2000: 281–282]. Текст выверен по изданию: Сборник Императорского русского исторического общества. СПб.: [Б. и.], 1892. Т. 71. Стлб. 111.
-
23 Уже в XVIII в. жертва во имя отечества — вполне распространенный языковой штамп, и государственная идея сохраняется едва ли не до XXI в.
-
24 Второе послание Курбского Ивану Грозному // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подгот. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. М.: Наука, 1981. С. 102. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения ВПК и указанием страницы в круглых скобках.
-
25 У исследователей нет единого мнения о жанре этого памятника, между тем большинство из них приходит к мнению о его полижанровой природе [Уваров], [Лихачев, 1981: 207–211], [Калугин: 204], [Еруса-лимский, 2009: 296].
-
26 Имеется в виду, например, переписка Курбского со старцем Вассианом Муромским (см.: [Калугин: 23–30]).
-
27 Не сомневался в этом, по-видимому, к концу жизни и сам Грозный [Булычев: 17].
-
28 Житие митрополита Филиппа / подгот. текста, пер. и комм. И. А. Ло-баковой // БЛДР. СПб.: Наука, 2005. Т. 13. С. 726.
Ural Federal University
Список литературы "Изображая жертву": пафос обличения и мученичества в сочинениях Ивана Грозного и Андрея Курбского
- Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности // Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. — С. 158-190.
- Буланин Д. М. Политическая доктрина в афоризмах: малоизученные источники Первого послания Ивана Грозного Андрею Курбскому // Die Welt der Slaven. — 2019. — Bd. 64. — Heft 1. — S. 87-107.
- Булычев А. А. Между святыми и демонами: заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. — М.: Знак, 2005. — 304 с.
- Васильев В. К. Сюжетная типология русской литературы XI-XX веков (Архетипы русской культуры). От Средневековья к Новому времени. — Красноярск: ИПК СФУ, 2009. — 260 с.
- Гладкий А. И., Цеханович А. А. Курбский Андрей Михайлович // СККДР. — Л.: Наука, 1988. — Вып. 2. Вторая половина XIV — XVI в. — Ч. 1. — С. 494-503.
- Ерусалимский К. Ю. Сборник Курбского. Исследование книжной культуры: в 2 т. / отв. ред. С. О. Шмидт. — М.: Знак, 2009. — Т. 1. — 882 с.
- Ерусалимский К. Ю. Назначение «Истории» // Курбский А. М. История о делах великого князя московского / изд. подг. К. Ю. Ерусалимский. — М.: Наука, 2015. — С. 221-287.
- Калугин В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный: теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя. — М.: Языки русской культуры, 1998. — 416 с.
- Канторович Э. Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. — 2-е изд., испр. / пер. с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной. — М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. — 752 с.
- Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика: Иван Пересве-тов, Иван Грозный, Андрей Курбский. — М.: Прометей, 2000. — 418 с.
- Каравашкин А. В. Иван Грозный и Андрей Курбский: конфликт интерпретаций // Studia Litterarum. — 2020. — Т. 5. — № 1. — С. 148-161. DOI: 10.22455/2500-4247-2020-5-1-148-161
- Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 368 с.
- Кром М. М. «Вдовствующее царство»: политический кризис в России 30-40-х годов XVI века. — М.: НЛО, 2010. — 872 с.
- Курбский А. М. История о делах великого князя московского / изд. подг. К. Ю. Ерусалимский. — М.: Наука, 2015. — 942 с.
- Лихачев Д. С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского (царь и «государев изменник») // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подгот. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. — М.: Наука, 1981. — С. 183-213.
- Лихачев Д. С. На пути к новому литературному сознанию (вторая половина XVI века) // Лихачев Д. С. Великий путь: Становление русской литературы XI-XVII вв. — М.: Современник, 1987. — С. 174-184.
- Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: от теории словесности к структуре текста: антология / под общ. ред. В. П. Нерознака. — М.: Academia, 1997. — С. 280-287.
- Лурье Я. С. Судьба беллетристики в XVI в. // Истоки русской беллетристики: возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. — Л.: Наука, 1970. — С. 387-449.
- Лурье Я. С., Роменская О. Я. Иван IV Васильевич Грозный // СККДР. — Л.: Наука, 1988. — Вып. 2. Вторая половина XIV-XVI в. — Ч. 1. — С. 371-384.
- Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / текст подгот. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. — М.: Наука, 1981. — 430 с.
- Попович А. И. Жертва «живая» и «мертвая»: топос и разноречие контекста в книжности Древней Руси XI-XIV веков // Летняя школа по русской литературе. — 2019. — Т. 15. — № 2-3. — С. 115-135. DOI: 10.26172/2587-8190-2019-15-2-3-115-135
- Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / под ред. С. А. Семячко и Т. Р. Руди. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. — Т. 1. — С. 59-101.
- СККДР. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. — Вып. 2. Вторая половина XIV-XVI в. — Ч. 3. — 768 с.
- Скрынников Р. Г. Царство террора. — СПб.: Наука, 1992. — 576 с.
- Уваров К. А. Князь А. М. Курбский — писатель («История о великом князе Московском»): автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М.: [Б. и.], 1973. — 25 с.
- Успенский Б. А. Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика искусства. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. — С. 9-218.
- Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России (византийская модель и ее русское переосмысление). — М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. — 680 с.
- Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский: просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — 624 с.
- Шмидт С. О. Заметки о языке посланий Ивана Грозного // ТОДРЛ. — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. — Т. 14. — С. 256-265.
- Halperin Ch. J. Ivan the Terrible: Free to Reward and Free to Punish. — Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2019. — 360 p.
- Hunt P. Ivan IV's Personal Mythology of Kingship // Slavic Review. — 1993. — Vol. 52. — Iss. 4. — Pp. 769-811.
- Madariaga I. Ivan the Terrible. First Tsar of Russia. — Yale: Yale University Press, 2006. — 526 p.