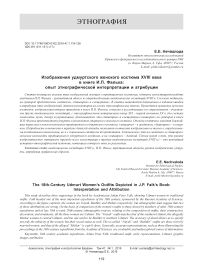Изображения удмуртского женского костюма XVIII века в книге И.П. Фалька: опыт этнографической интерпретации и атрибуции
Автор: Нечвалода Е.Е.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу трех изображений женщин в традиционных костюмах, которые иллюстрируют работу академика И.П. Фалька - руководителя одного из отрядов Больших академических экспедиций XVIII в. Согласно подписям, на гравюрах представлены «вотячка», «башкирка» и «мещерячка». В статье выявляются допущенные в издании ошибки в атрибуции этих изображений, даются комментарии на основе этнографических данных. Проводится сравнение женских костюмов, изображения которых приведены в книге И.П. Фалька, а также в исследованиях его современников - участников других академических экспедиций, с этнографическими материалами конца XIX - первой половины ХХ в. (по составу комплекта, крою, декору и украшениям). Доказывается, что «башкирка» и «мещерячка»/«мишарка» на гравюрах в книге И.П. Фалька представляют удмурток в комплектах старинного женского костюма. Одежда «вотячки» находит ближайшие параллели в южном комплексе традиционного удмуртского костюма, «мишарки» - в срединном, «башкирки» - в северном. Подробность и точность в передаче деталей одежды позволяют соотнести изображения не только с определенными костюмными комплексами, но и с социальным статусом их прототипов. Установлено, что на «вотячке» и «башкирке» женские комплекты традиционного удмуртского костюма, а на «мишарке» - девичий. Сделан вывод о том, что ранние изобразительные материалы (прежде всего иллюстрации к трудам академических экспедиций XVIII в.) - это ценнейший историко-этнографический источник, потенциал которого пока не реализован.
Академические экспедиции xviii в., и.п. фальк, традиционная одежда, ранние изображения, удмурты, атрибуция графических образов
Короткий адрес: https://sciup.org/145145913
IDR: 145145913 | УДК: 391 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.119-126
Текст научной статьи Изображения удмуртского женского костюма XVIII века в книге И.П. Фалька: опыт этнографической интерпретации и атрибуции
Изображения представителей этнических типов в традиционных костюмах, иллюстрирующих сочинения И.П. Фалька, – особо ценный историко-этнографический источник. Гравюры были выполнены по зарисовкам с натуры; они подробны, детально точны, в них нет цитирований изображений из трудов других ученых, путешественников XVIII в. [Жабрева, 2007; Вишленкова, 2011, с. 49]. Этнические типажи И.П. Фалька репродуцировались крайне редко, до недавнего времени их не анализировали и не комментировали этнографы, а также практически не использовали в своих публикациях специалисты по традиционному костюму. В данной статье дается этнографический анализ трех из указанных изображений.
Анализ графических источников
Одно из изображений женщины в традиционном костюме, иллюстрирующих сочинение И.П. Фалька [Falk, 1786, Вd. 3, Tab. XXXII], сопровождает подпись «Eine Wotjaken» – вотячка (далее – «вотячка»). Удмуртка запечатлена в двух ракурсах – спереди и сзади. На изображении переданы характерные особенности традиционного удмуртского костюма: высокий

Рис. 1. «Вотячка» [Falk, 1786, Bd. 3, Tab. XXXII].
головной убор айшон , платок-покрывало с бахромой сюлык , кафтан шортдэрем из белого полотна (очевидно, домашнего холста), имеющий ложные рукава с разрезами в верхней части, остроносые удмуртские лапти (рис. 1). На ногах удмуртские женщины могли носить обертки из черного сукна куттор (в центральных районах – в Шарканском и соседних). Точно переданы детали отделки костюма. У косинских удмуртов было принято нашивать на изнаночную сторону рукава рубахи (в его манжетной части) красную ткань, а при ношении рубахи отворачивать край, чтобы была видна красная обшивка [Лебедева, 2008, с. 24–25]. Завернутые у края красные концы рукавов рубахи, показанные на гравюре, являются, видимо, отображением этой традиции. Рукава, украшенные продольными красными полосами, соответствуют традиционной женской рубахе косинских удмуртов гордэн с продольно нашитыми красными лентами. Косинские удмурты обшивали разрезы на рукавах кафтанов полосой красной ткани; такая же отделка показана на изучаемом изображении.
В оформлении платка-покрывала, изображенного на гравюре, хотя композиция его декора не читается полностью, просматриваются специфические для удмуртских сюлыков черты: 1) в углах показаны ромбы (на вершины подобных ромбов опирались четыре Древа жизни писпу пужы ); 2) мелкие черные элементы узора на белом фоне сю-лыка соотносимы с мелкими ромбами и треугольниками, из которых составлялись изображения Древа жизни; 3) помещенный в центре платка ромб с треугольниками у вершин соответствует небольшим ромбам в окружении треугольников, которые нередко располагались в центре всей композиции. Манера ношения платка-покрывала, как ее изобразил художник, отвечает традиции одной из групп южных удмуртов: сю-лык не расправлен по плечам, а заложен двумя крупными складками, идущими от вершины убора. Так сюлык носили, в частности, в с. Завьялово б. Сарапульского у. Вятской губ. [Там же, с. 91, фото 82]. У других групп удмуртов допускалось но сить платок в расправленном виде [Manninen, S. 72, Abb. 24].
На груди «вотячки» отсутствует вышитый или аппликативный нагрудник. Вместо него показана аппликация в виде составленного из красных полос ромба, от верхнего угла которого вверх тянется поло с а, упирающаяся в дельтообразную фигуру. Слева от нее (т.е. на правой стороне груди) прохо- дит еще одна вертикальная красная поло са. Можно предположить, что расположенная у правого плеча полоска окаймляет нагрудный разрез, который на старинных удмуртских рубахах делали с правой стороны. Удмуртка изображена в айшоне – уборе замужних женщин, которых традиции северных удмуртов обязывали носить тканевый нагрудник (кабачи, муресазь) поверх рубахи. В собственно южно-удмуртском ко стюмном комплексе тканевый нагрудник кыкрак надевался под рубаху. Особенности ко стюма «вотячки» (манера ношения покрывала сюлык, отсутствие нагрудника на рубахе) позволяют предположить, что на гравюре передан южный комплекс одежды удмуртской женщины. Черты, сближающие его с североудмуртским костюмом, можно объяснить принадлежностью обоих к древнему пласту, на основе которого формировался традиционный удмуртский ко стюм. В северных районах, в частности, в упоминаемом выше косинском ко стюмном комплексе они сохранялись дольше, чем в южных: к концу XIX в. такие черты были уже утрачены.
Так кто же изображен на этих гравюрах под именами «башкирка» и «мишарка»? Комплексы, представленные на гравюрах, характерны для народов Волго-Уральского региона: одежда из белого холста, украшенная вышивкой и нашитыми красными полосами; холщовая рубаха носится в комплекте с верхней одеждой из белого холста. Как отмечено выше,

Рис. 2. «Башкирка» [Falk, 1786, Bd. 3, Tab. XXXV].

Рис. 3. «Мещерячка» [Falk, 1786, Bd. 3, Tab. XXXVI].
изображенные женщины не могли быть ни татарками, ни башкирками. Они не могли быть мордовками (ни мокшей, ни эрзей), их костюм разительно отличался от представленного на гравюре костюмного комплекса (предметы одежды, их декоративная отделка, способ ношения).
Изображенные элементы костюмов находят параллели в традиционной одежде марийцев, чувашей и удмуртов. Однако одежда чувашей и марийцев обнаруживает не только сходные черты с изучаемыми костюмами, но и существенные различия. Женский костюм чувашей включал и полотенчатые головные уборы (как у «башкирки»), и монетные шапочки (как у «мишарки), и ожерелье с крестом [Белицер, 1971, с. 328], и черные портянки, и онучи [Там же, с. 329], и передники, по крою подобные сравниваемым [Николаев, Иванов-Орков, Иванов, 2002, с. 63, илл. 49]. Но в традиционном чувашском костюме передник не повязывали поверх кафтана, не известна чувашской традиции и композиция декора рукавов, подобная изображенной на одежде «мишарки», не существовало в ней соединенных с ниткой бус серег в форме знака вопроса, присутствующих в костюме «мишарки», и форма чувашских лаптей была иной. Передник поверх кафтана в комплексе одежд из белого холста могли носить луговые марийцы; у них были и соединявшиеся цепочкой или лентой ушные украшения, по форме близкие к обсуждаемым [Шикаева, 1987, с. 140–141, рис. 5; Марийские украшения…, 1985, с. 14, 32], и черные онучи, и полусферические, покрытые монетами шапочки, и украшения в виде широкой цепочки с крестом. Но ношение кафтана в комплекте с рубахой в марийской традиции, как и в чувашской, не считалось обязательным [Молотова, 1992, с. 56]. Так одевались луговые марийки только на праздник. На гравюрах, приведенных в работах П.С. Палласа и И.Г. Георги, чувашки изображены в рубахах и без кафтанов, как и марийка на одном из рисунков в книге И.Г. Георги. Полусферические девичьи шапочки марийцы, согласно материалам XVI–XVII вв., не носили в комплекте с височными кольцами в форме знака вопроса (как в костюме «мишарки»), т.к. последние являлись частью костюма замужней женщины [Шикаева, 1987, с. 139]. Марийские лапти по форме отличалась от остроносых, изображенных на гравюрах. Способ, которым повязано головное полотенце «башкирки», не характерен для чувашей и марийцев. Декоративное оформление рукавов одежды «мишар- ки» и полочек кафтана «башкирки» также не находит аналогий в традиционном марийском и чувашском костюме. Таким образом, этнографические материалы свидетельствуют о том, что под именами «башкирки» и «мишарки» не могли быть изображены ни чувашка, ни марийка. Это и неудивительно: экспедиция И.П. Фалька не успела посетить основные районы компактного проживания марийцев и чувашей, расположенные западнее ее маршрута, потому вероятность фиксации традиционного чувашского и марийского костюма в изобразительных материалах этой экспедиции была минимальной.
Следует отметить, что отдельные элементы изображенных костюмов можно встретить в одежде различных народов Волго-Уральского региона. Одежда «башкирки» как единый комплекс (элементы костюма, их крой и декор, манера ношения) среди различных костюмных комплексов региона обнаруживает очень близкие аналогии с одеждой северных, нижнечепецких удмуртов. При этом она значительно отличается от комплексов традиционной одежды других народов Урало-Поволжья. Маршрут И.П. Фалька пролегал по территории Вятской губ., по заселенным удмуртами землям. И, вероятно, неслучайно многие особенности костюма изображенных «башкирки» и «мишарки» находят параллели именно в традиционном удмуртском женском костюме.
Косинские традиции ярко проступают в специфичной форме ворота и декоре полочек кафтана «башкирки». У кафтана, изображенного на гравюре в книге И.П. Фалька, отложной воротник словно отстоит от края полы, образуя своеобразную ступень. Такая необычная форма ворота была характерна для праздничных кафтанов косинских удмуртов и объяснима традициями их оформления: «В праздничных халатах полы на уровне груди надрезали перпендикулярно краю полы… а выше надреза отгибали таким образом, что образовывались прямоугольные отвороты… Эти отвороты обшивали и наращивали: с лицевой стороны – красными шелковыми лентами, с изнаночной – белым холстом» [Косарева, 2000, с. 32]. Изображенный на гравюре ворот кафтана так же обшит по краю красной полосой и тканью другого цвета. Ниже ворота полы кафтана на рассматриваемой гравюре украшены по краям поперечными полосками. Отделывали полочки аппликацией из горизонтально нашитых вдоль краев полосок ткани контрастных тонов не только белые холщовые кафтаны, но и праздничные кафтаны косинского костюмного комплекса удмуртов. Поперечные полоски на полах кафтана, расположенные на уровне груди, можно увидеть и на «вотячке», изображенной в книге Г.Ф. Миллера [1791, илл. 5].
На женских кафтанах косинских удмуртов в верхней части рукава для продевания рук делали разрезы, которые обшивали красной тканью. На гравюре в верхней части рукава кафтана «башкирки» видна красная поперечная полоска, в одном месте она слегка выступает за силуэтную линию рукава, а в другом – словно приминает рукав. Не вызывает сомнения, что таким образом показано обрамление красной тканью разрезов на рукавах кафтана, следовательно, расположенные ниже этих полосок узорные рукава – это рукава рубахи. Их орнамент состоит из продольных полос и цепочек ромбов. У косинских удмуртов рукава праздничных рубах гордэн украшались подобным образом: продольными полосами вышивки кечатэн (каждая из которых представляла собой цепочку ромбовидных фигур), а также нашитыми вдоль вышивки полосками красной ткани [Косарева, 2000, с. 29–31].
В просвете между полами кафтана на этом рисунке не видно нагрудного разреза нательной рубахи (как на вышеописанной фигуре «вотячки»). На груди «башкирки» пространство между полами кафтана украшено вертикально расположенными зигзагами, которые соприкасаются и образуют в центре цепочку из ромбов. Вероятно, так на гравюре изображен орнамент женского вышитого нагрудника кабачи , надевавшегося под кафтан, поверх рубахи. Он был обязательным элементом старинного женского костюма северных групп удмуртов. Вышитый орнамент нагрудников нередко имел сетчатую структуру с ячейками-ромбами (просветы могли оставаться незашитыми).
Полы кафтана «мишарки» не сходятся (краями полочек считаем красные полоски, изображенные на груди, т.к. обычно полосками красной ткани обрамляли края). Между полами видна нагрудная часть рубахи. На рубахе на правой стороне груди можно видеть красную и желтые вертикальные полоски. Полосками красной ткани обычно обшивали нагрудный разрез. Вероятно, изображенная рубаха в оригинале имела правосторонний разрез, характерный для старинных удмуртских женских и девичьих рубах [Косарева, 2000, с. 26, 66–67]. Кроме того, на груди «мишарки» к расположенной справа планке-обшивке разреза примыкают помещенные друг под другом три треугольника (обращены вершинами вниз). У народов Волго-Уральского региона рубахи, декорированные в верхней части цепочкой из трех аппли-кативных треугольников, не известны. Удмуртские девичьи рубахи на груди традиционно оформляли аппликацией (выложена полосками красной ткани) в виде обращенного вершиной вниз треугольника-оберега гадькотыртэм , который примыкал одним углом к разрезу [Гаген-Торн, 1960, с. 28; Белицер, 1951, с. 37; Косарева, 2000, с. 29, 66]. В этом можно видеть сходство с рубахой «мишарки». Необходимо отметить, что украшать одежду нашитыми чаще красными полосами тесьмы (ткани) – традиция древняя и довольно широко распространенная в прошлом в Волго-Уральском регионе. Таким образом украшали и заодно укрепляли (в практическом и магическом понимании) соединительные швы, края и разрезы. В рамках этой общей традиции существовали этнически специфичные нормы. Для удмуртов таковыми были следующие: использование в аппликации треугольных лоскутов, выкладывание полосками ткани треугольников и отдельных углов. Последние нашивали на рукава удмуртских женских рубах (на уровне плеча); треугольник и ромб нашивали на рукава кафтанов над разрезом [Manninen, 1957, S. 136, Abb. 135]. На изображениях «вотячки» и «мишарки», приведенных в работе И.П. Фалька, красными треугольниками (очевидно, аппликативными) украшена верхняя часть рукава кафтана. Удмуртские аппликации в виде цепочки из трех треугольников (как на рассматриваемой гравюре) нам не известны, но парные треугольники, соединенные подобным же образом, встречаются и в удмуртской вышивке (на платках-покрывалах сю-лык ), и в аппликации (на старинных рубахах красноуфимских удмуртов красные треугольники, нашитые парами, обрамляли нагрудную вышивку) [Никоно-рова, 2008; Садиков, Никонорова, 2009]. Важно, что украшение одежды треугольниками не только одиночными, но и соединенными вершинами с основаниями
(как на костюме «мишарки»), отвечало традициям удмуртов. Таким образом, оформление нагрудной части рубахи «мишарки», хотя и не находит абсолютно точных совпадений в материалах по удмуртской одежде конца XIX – начала ХХ в., но в целом укладывается в традиции нашивать треугольник-оберег на грудь девичьей рубахи и комбинировать треугольники в ап-пликативном декоре одежды. Примечательно также, что на рубахе «мишарки», как и «вотячки», в нижней части нагрудного пространства красной лентой выложен ромб. Возможно, это еще одно соответствие ап-пликативного оформления одежды «мишарки» «вотяцкой» традиции.
На гравюре «мишарка» изображена в шапочке, чешуеобразно обшитой мелкими монетами; поверх шапочки повязан платок с красной бахромой. Платок скреплен под подбородком, а бахрома платка лежит на плечах. Головной убор однозначно указывает на то, что девушка запечатлена в костюме невесты. Вариантом декорирования удмуртских девичьих шапочек является чешуеобразное оформление их поверхности, принятое, в частности, у шарканских удмуртов. В некоторых местах девушки-удмуртки носили такъю и без платка, но «в Глазовском и Сарапульском районах такъю покрывали платком, завязывая концы под подбородком и оставляя открытой переднюю часть такъи, украшенную серебрянными монетами» [Бели-цер, 1951, с. 57]. Очевидно, что на гравюре изображены сложный головной убор девушки-невесты такъя и покрывающий ее платок такъя кышет , бытовавший у срединных удмуртов.
Украшением в костюме «мишарки» являются серьги с цепочкой, спускающейся на грудь, с крестом посередине. У нижнечепецких удмуртов подобной формы серьги с цепочкой, как отмечено выше, часто служили дополнением одежды, крест носили в качестве украшения на шнурке кирос [Косарева, 2000, с. 85]. Изображенные на ногах «мишарки» лапти имеют традиционную для удмуртов форму – с заостренным носком прямого плетения. Лапти татар и русских выглядят иначе. Комплекс одежды и украшений, изображенных на «мишарке», в целом находит больше параллелей в одежде срединных удмуртов и в шаркан-ско-якшурбодьинском костюмном комплексе.
Заключение
Не вызывает сомнения, что в книге И.П. Фалька «башкирка» и «мишарка» запечатлены в одежде, относящейся к традиционному удмуртскому ко стюму, и подписи к этим изображениям неверны. При тех обстоятельствах, при которых материалы экспедиции путешественника готовились к печати, ошибки в подпи- сях к рисункам были возможны [Нечвалода, 2014а, б]. На трех из шести изображений представителей народов России, иллюстрирующих сочинение И.П. Фалька, показаны удмуртки в женских комплектах традиционного удмуртского костюма (на «вотячке» и «башкирке») и в девичьем (на «мишарке»). Три комплекта удмуртской одежды соотносятся с различными костюмными комплексами: комплект на «вотячке» – с южным, на «мишарке» – с срединным, на «башкирке» – с северным. Корректность последнего вывода вызывает сомнения, поскольку И.П. Фальк не посещал северных удмуртов. Он побывал в южной части Вятской губ. «на правой стороне Камы и нижней Вятки» [Записки…, 1824, с. 191]. Следовательно, путешественник на своем пути мог видеть только срединных и южных удмуртов; комплекты шарканско-якшурбо-дьинского (срединные удмурты), южно-удмуртского и завятского комплексов. Можно было бы предположить, что его экспедиция зафиксировала костюм удмуртов Пермской губ., по территории которой проходили ее маршруты, но одежда этой группы удмуртов заметно отличалась от изображенного на «башкирке» комплекта [Никонорова, 2008; Садиков, Никонорова, 2009], и потому данный вариант разрешения означенного противоречия приходится исключить. Возможно, одежду, изображенную на «башкирке», И.П. Фальк видел на территории, расположенной к югу от Пермской губ., в зоне проживания срединных удмуртов, т.к. их одежда даже в начале ХХ в. была близка по многим характеристикам к одежде северных удмуртов [Лебедева, 2008, с. 156–157]. Вероятно, в XVIII в. их традиции были еще ближе, а сходство еще сильнее.
Считаем необходимым обратиться к вопросам степени достоверности изобразительных материалов XVIII в. и возможности их использования в качестве историко-этнографического источника. В отечественной литературе вслед за авторитетнейшим этнографом Т.А. Крюковой, считавшей, что иллюстрации в трудах П.С. Палласа и И.Г. Георги – это «вольное воспроизведение подлинников художником» [1949, с. 140], утвердилось весьма осторожное отношение к этому источнику. Опыт работы с ранними иллюстративными материалами [Нечвалода, 2016], в частности, с гравюрами в сочинении И.П. Фалька [Нечвалода, 2014а], позволяет считать изображения в трудах путешественников ценнейшим источником, потенциал которого пока не реализован. В исследованиях, посвященных традиционному костюму XVIII в., с ним по информативности не может сравниться никакой другой: артефакты в музейных фондах единичны, описания слишком общи. Только изображения (при всей их условности) могут передать целостный образ костюма: его состав, отчасти крой, декор, манеру ношения предметов, локальные и возрастные различия.
Список литературы Изображения удмуртского женского костюма XVIII века в книге И.П. Фалька: опыт этнографической интерпретации и атрибуции
- Белицер В.Н. Народная одежда удмуртов: материалы к этногенезу/отв. ред. Н.Н. Чебоксаров. -М.: АН СССР, 1951. -140 с. -(Тр. Ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Нов. сер.; т. 10).
- Белицер В.Н. Народы Среднего Поволжья и Приуралья//Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX -начало XX в.): определитель. -М.: Сов. Россия, 1971. -С. 288-350.
- Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». -М.: Новое лит. обозр., 2011. -368 с.
- Вышитая одежда удмуртов XIX-XX вв.: каталог коллекций/сост. Е.Н. Котова. -Л.: Государственный музей этнографии народов СССР, 1987. -84 с.
- Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья: материалы к этногенезу. -Чебоксары: Чуваш. гос. изд-во, 1960. -228 с.