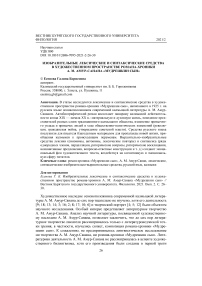Изобразительные лексические и синтаксические средства в художественном пространстве романа-хроники А. М. Амур-Санана "Мудрешкин сын"
Автор: Есенова Галина Борисовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются лексические и синтаксические средства в художественном пространстве романа-хроники «Мудрешкин сын», написанного в 1925 г. на русском языке основоположником современной калмыцкой литературы А. М. Амур-Сананом. Автобиографический роман воссоздает панораму калмыцкой действительности конца XIX - начала ХХ в.: материальную и духовную жизнь, поведение представителей разных слоев традиционного калмыцкого общества, изменение привычного уклада и привычек людей в ходе общественно-политических изменений (революция, гражданская война, утверждение советской власти). Средства русского языка послужили для писателя благодатным материалом для пропаганды новой жизни, приобщения калмыков к происходящим переменам. Выразительно-изобразительные средства лексики (синонимы, антонимы, лексические повторы) и синтаксиса (ряды однородных членов, парцелляции, риторические вопросы, риторические восклицания, номинативные предложения, вопросно-ответные конструкции и т. д.) создают эмоциональный фон художественного текста, воздействуя на когнитивную и эмоциональную сферу читателя.
Роман-хроника мудрешкин сын, а. м. амур-санан, лексические, синтаксические изобразительно-выразительные средства, русский язык, калмыки
Короткий адрес: https://sciup.org/148323749
IDR: 148323749 | УДК: 800 | DOI: 10.18101/2686-7095-2021-2-26-30
Текст научной статьи Изобразительные лексические и синтаксические средства в художественном пространстве романа-хроники А. М. Амур-Санана "Мудрешкин сын"
Есенова Г. Б. Изобразительные лексические и синтаксические средства в художественном пространстве романа-хроники А. М. Амур-Санана «Мудрешкин сын» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 2. С. 26– 30.
Художественное наследие основоположника современной калмыцкой литературы А. М. Амур-Санана до сих пор тщательно не изучено, хотя его деятельность [9; 18; 13; 14; 3; 16; 2; 8; 17; 10; 6] и творческий портрет [4; 5; 12] были объектом научного исследования. Особый интерес представляет литературное творчество А. М. Амур-Санана. Анализ научной литературы, посвященной художественному наследию А. М. Амур-Санана, позволяет заключить, что до сих пор литературное творчество писателя рассматривалось только с литературоведческой точки зрения, в частности, изучались сюжет, композиция романа-хроники «Мудре-шкин сын». К сожалению, не предпринималось лингвистическое исследование ни творчества А. М. Амур-Санана, ни романа-хроники «Мудрешкин сын». Литературная деятельность А. М. Амур-Санана не рассматривалась в аспекте художественного билингвизма, хотя его произведения были созданы в первой трети
ХХ в. и А. М. Амур-Санана можно отнести к родоначальникам художественного русско-национального билингвизма. Не предпринимается лингвокультурологическое исследование наследия А. М. Амур-Санана, не изучается русскоязычное литературное творчество писателя с точки зрения отражения картины мира калмыков в средствах приобретенной лингвокультуры, хотя в романе-хронике «Мудрешкин сын», по оценке критиков, нарисована панорама традиционной жизни калмыков [8; 15; 12]. К сожалению, до сих пор роман-хроника
А. М. Амур-Санана подробно не изучался и с точки зрения языковых особенностей, за исключением исследования функционирования безэквивалентной [11] и национально-региональной [7] лексики в художественном пространстве романа.
Целью настоящей статьи является изучение изобразительных лексических и синтаксических средств в тексте романа-хроники А. М. Амур-Санана «Мудрешкин сын» [1].
Анализ показывает, что изобразительно-выразительные средства русского языка писатель широко использует при описании картин природы, для характеристики персонажей, происходящих событий, а также для передачи переживаемых чувств, эмоциональной оценки поступков, поведения, обычаев. Особенно часто автор использует разнообразные лексические средства. Это могут быть контекстуальные синонимы ( тихо и бессильно мычала — о корове; милый, хороший, добрый, умный — о сян (хорошем) человеке; обе сироты, обе презираемые, обе несчастные — о матери и Ботохэ), лексические повторы, с помощью которых дается эмоционально-экспрессивная оценка (дорога все хуже и хуже , путь все труднее и труднее — о переходе в осеннюю распутицу). Антонимы могут употребляться для создания контраста, например для характеристики отца: трезвый, в здравом уме, он тиранил нас, а пьяный истязал безумно . Автор часто использует цепочки однородных членов, каждый последующий член которых усиливает передаваемое значение, создавая определенный эмоциональный фон контекста: отец бил меня, мать, сестер так, как бил нашу рыжую кобылу, безрогую корову и старую собаку; она делает все: стряпает, стирает, обшивает семью, доит и поит коров, сюда входят отец и мать мужа, все деды, прадеды и вообще все дяди, тети, старшие братья, их жены, сестры и их мужья (о соблюдении обычая избегания замужней калмычкой в отношении родственников мужа); смотря по степени провинности молодайки, приносятся в жертву духам халаты, деньги, бараны, даже лошади и коровы . Иногда для усиления воздействующей силы текста в одном предложении автор использует и лексический повтор, и контекстуальные синонимы, например: только потому что она — детище родового общества, детище бедности и нужды . Зачастую автор прибегает к комбинированию средств. Например, использует лексический повтор, контекстуальные синонимы, ряды однородных членов: невольно вспомнилось мне мое горемычное прошлое, мое скорбное детство: такая же убогая кибитка, моя бедная плачущая мать, вечно обижаемый и вечно обижающий свою семью, всегда горько пьяный отец . Автор может прибегать к контекстуальным синонимам и сравнениям, например: мои маленькие, забитые, запуганные насмерть, как звереныши, сестры . Все эти средства служат передаче замысла автора, используются для воздействия на эмоциональную сферу читателя.
К синтаксическим изобразительно-выразительным средствам, которые используются автором в тексте романа, относятся риторические вопросы и воскли- 27
цания, вопросно-ответные конструкции, назывные предложения, ряды синтаксически однородных конструкций, парцеллированные конструкции. Большая эмоционально-экспрессивная нагрузка лежит на риторических вопросах, которые задает автор себе в самые сложные моменты жизни. Например: А что тогда станет с нами — со мной, с бабушкой Алдэ, с отцом? Что было делать ? Риторические вопросы в тексте произведения используются реже, чем риторические восклицания, с помощью которых автор передает всю глубину переживаемых чувств ( Сколько раз было так ! — о побоях пьяницы-отца), свою эмоциональную оценку происходящему ( Проклятый обычай проклятого родового быта, отжившего, но живучего и мешающего жить новым поколениям ! Сколько было тут вывернутых наизнанку, до неузнаваемости, под цвет и тон революционного времени, индалуков! Сколько бездельников, пропойц, зубоскалов, воров и мошенников — людей, способных с величайшим усердием показать вид общественно полезных работников, но по существу своему глубоко антиобщественных, вредных !). Риторические восклицания могут адресоваться и самому герою-рассказчику: Ах, только бы скорее вырасти ! Да, надо во что бы то ни стало сделаться сян-кюном !
Подобные синтаксические средства могут передавать глубокие чувства любви, нежности к двум самым любимым существам — матери ( Так безгранична любовь матери !) и бабушке ( Сколько прекрасных сказок она мне рассказала !). Особой эмоциональной силой нагружены конструкции с прямой речью, вложенные в уста маленького мальчика: « Сколько раз я плакал и думал: “Неужели никогда не придет сян-кюн и не скажет, что так жить нельзя и не заступится за нас ?”». Поиску ответа на этот вопрос он посвящает свою жизнь. В связи с этим данная конструкция наделяется значительной смысловой нагрузкой в художественном пространстве романа-хроники. Разлитой экспрессивности текста способствуют и эмоционально-оценочные вводные конструкции, например: Я купил три ведра водки — будь она проклята! — и посещение сестры состоялось .
Вопросно-ответные конструкции являются средством передачи внутренней речи, передают размышления автобиографического героя, его сомнения: « Значит, недостаточно вырасти, чтобы стать сян-кюном. Для этого надо что-то еще. Что же? Вероятно, надо учиться ». Прямая речь также служит особой эмоциональности изложения: «Как бы хорошо мне надеть такой мундир, учиться и узнать все, — мечтал я ».
Следующее выразительное синтаксическое средство — назывные предложения, которые используются реже, чем рассмотренные выше, однако они используются автором в особо значимых эпизодах. Так, предложением Группа кибиток начинается рассказ о Бадгэ.
Автор использует и такое изобразительное средство, как синтаксически однородные конструкции: Мои маленькие, забитые, запуганные насмерть, как звереныши, сестры. Хромая, вечно голодная рыжая кобыла. Худые от недоедания ко-ровы…Всегда голодная, с опаленной шерстью на боках, старая, но верная собака, тоскливо полулежавшая около очага и вместе со всеми нами смотревшая в рот отцу ... Здесь они усиливают воздействующую силу назывных конструкций.
Некоторый налет разговорности привносят в художественный текст парцеллированные конструкции, например: Я же ходил голодный и оборванный. Главное — голодный; И хоть бы раз он дал этому сыну леденец, хоть бы раз приласкал его. Никогда! И тут впечатлительный ребенок искал вместо своего род- ственника чужого. Чужого, но хорошего человека — сян-кюна. Употребление подобных конструкций уместно: они не нарушают стилистическое единство контекста, а передаваемая через них экспрессия свидетельствует об оправданности их использования в художественном пространстве романа.
Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что в романе-хронике А. М. Амур-Санана «Мудрешкин сын» широко используются разнообразные лексические и синтаксические изобразительно-выразительные средства. Синонимы, антонимы, лексические повторы, ряды однородных членов, парцелляции, риторические вопросы, риторические восклицания, номинативные предложения, вопросно-ответные конструкции, синтаксически однородные конструкции создают эмоциональный фон художественного текста, воздействуя на когнитивную и эмоциональную сферу читателя.
Список литературы Изобразительные лексические и синтаксические средства в художественном пространстве романа-хроники А. М. Амур-Санана "Мудрешкин сын"
- Амур-Санан А. М. Мудрешкин сын. Москва: Советский писатель, 1966. 456 с.
- Балакаев А. Г., Оглаев Ю. О. Литературное наследие А. Амур-Санана: проблемы публикации // А. М. Амур-Санан — певец революции: к 100-летию со дня рождения. Элиста: Изд-во КНИИФЭ, 1988. С. 113–125. Текст: непосредственный.
- Джамбинова Р. А. А. Амур-Санан и калмыцкая литература // А. М. Амур-Санан — певец революции: к 100-летию со дня рождения. Элиста: Изд-во КНИИФЭ, 1988. С. 26–45. Текст: непосредственный.
- Джимгиров М. Э. А. М. Амур-Санан (1888–1939) // Вестник КНИИЯЛИ. 1973. № 8. С. 8–21. Текст: непосредственный.
- Есенова Т. С. Русский язык в Калмыкии. Элиста: Изд-во КалмГУ, 2003. 190 c. Текст: непосредственный.
- Есенова Г. Б., Джалсанов Ц. С. Наследие А. М. Амур-Санана // Трудовой вклад народов Юга России в победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: материалы российской научно-практической конференции. Элиста: Изд-во КалмГУ, 2020. С. 240–246. Текст: непосредственный.
- Есенова Т. С., Есенова Г. Б. Функционирование национально-региональной лексики в художественном тексте // Русский язык в современном научном и образовательном пространстве: материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию профессора С. А. Хаврониной. Москва: Изд-во РУДН, 2020. С. 285–290. Текст: непосредственный.
- Кабаченко Е. Т. Амур-Санан. Жизнь и творчество. Элиста: Калмиздат, 1967. 131 с. Текст: непосредственный.
- Команджаев А. Н. Путешествие в калмыцкий хотон // Теегин герл. 1988. № 3. С. 97–100. Текст: непосредственный.
- Лиджиева Б. Б. Концепция личности в творчестве А. М. Амур-Санана // А. М. Амур-Санан — певец революции: к 100-летию со дня рождения. Элиста: Изд-во КНИИФЭ, 1988. С. 80–95. Текст: непосредственный.
- Манджиева Э. Б., Манджиев Б. П. Безэквивалентная лексика в художественном тексте (на материале романа-хроники А. М. Амур-Санана «Мудрешкин сын») // Русская речь в инонациональном окружении. Элиста, 2019. Вып. 11. С. 31–37. Текст: непосредственный.
- Мусова Н. Н. А. М. Амур-Санан — публицист // А.М. Амур-Санан — певец революции: к 100-летию со дня рождения. Элиста: Изд-во КНИИФЭ, 1988. С. 64–79. Текст: непосредственный.
- Неяченко Р. В. А. М. Амур-Санан о судьбе женщины-калмычки // А. М. Амур-Санан — певец революции: к 100-летию со дня рождения. Элиста: Изд-во КНИИФЭ, 1988. С. 126–137. Текст: непосредственный.
- Поляков Н. Н. Антон Амур-Санан. Элиста: Калмиздат, 1970. 82 с. Текст: непосредственный.
- Поляков Н. Н. Летописец революции // А. М. Амур-Санан — певец революции: к 100-летию со дня рождения. Элиста: Изд-во КНИИФЭ, 1988. С. 46–64. Текст: непосредственный.
- Романенко Д. И. О творчестве А. Амур-Санана // Теегин герл. 1963. № 3. С. 57–72. Текст: непосредственный.
- Салдусова А. Г. Роман А. М. Амур-Санана «Мудрешкин сын» (к проблеме литературного героя) // А. М. Амур-Санан — певец революции: к 100-летию со дня рождения. Элиста: Изд-во КНИИФЭ, 1988. С. 96–112. Текст: непосредственный.
- Убушаев В. Б. Революционер, писатель, интернационалист // А. М. Амур-Санан — певец революции: к 100-летию со дня рождения. Элиста: Изд-во КНИИФЭ, 1988. С. 3–25. Текст: непосредственный.