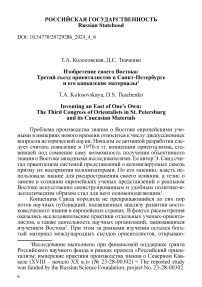Изобретение своего Востока: Третий съезд ориенталистов в Санкт-Петербурге и его кавказские материалы
Автор: Колосовская Т.А., Ткаченко Д.С.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 4 (82), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья написана в рамках изучения процесса производства знания о Востоке европейскими учеными в империях нового времени и дискуссии об объективности такого знания. В ней, на основании впервые вводимых в научный оборот архивных документов, анализируются вопросы подготовки и проведения в 1876 г. в Санкт-Петербурге Третьего международного съезда ориенталистов и особенности представления на нем кавказских материалов. Подчеркивается, что востоковедческие исследования в России имели свои специфические черты. Они были направлены не только на внешний Восток, но и на азиатские окраины Российской империи, среди которых Кавказ занимал едва-ли не первое место. Делается вывод о том, что организация подготовительных работ по представлению на съезде кавказских материалов показала их очевидную зависимость от решения центральных и местных властей. Через выделяемое финансирование кавказский наместник влиял на объем и характер представленного на съезде научного знания о Кавказе. Власть жестко контролировала инициативы ученых, поскольку изучение региона рассматривало в качестве важной составляющей его «цивилизации» и интеграции в имперское государственное пространство. Вместе с тем кавказские материалы съезда показывали, что знания российских специалистов о реальном Востоке были весьма разрозненными и фрагментарными. В работе кавказских секций съезда представители местных этнических групп, даже тщательно отобранные на подготовительном этапе, так и не были представлены.
Ориентализм, ученый-ориенталист, международный съезд ориенталистов, кавказ, кавказские народы, ислам, востоковедение, министерство народного просвещения, музейная коллекция, семья романовых, производство знаний
Короткий адрес: https://sciup.org/149146729
IDR: 149146729 | DOI: 10.54770/20729286_2024_4_6
Текст научной статьи Изобретение своего Востока: Третий съезд ориенталистов в Санкт-Петербурге и его кавказские материалы
T.A. Kolosovskaya, D.S. Tkachenko
Inventing an East of One’s Own:
The Third Congress of Orientalists in St. Petersburg and its Caucasian Materials
Проблема производства знания о Востоке европейскими учеными в империях нового времени относится к числу дискуссионных вопросов исторической науки. Началом ее активной разработки следует считать появление в 1970-х гг. концепции ориентализма, ставившей под сомнение саму возможность получения объективного знания о Востоке западными исследователями. Ее автор Э. Саид считал ориентализм системой представлений о колонизируемых сквозь призму их восприятия колонизаторами. По его мнению, власть использовала знание для распространения своего влияния, а тезис о замене в сознании европейских ученых представлений о реальном Востоке искусственно сконструированным и удобным политико-идеологическим образом стал для него основополагающим1.
Концепция Саида породила не прекращающийся до сих пор поток научных публикаций, посвященных анализу развития востоковедческого знания в европейских странах. В фокусе рассмотрения оказались исследовательские практики отдельных ученых-ориенталистов, а также деятельность научных организаций, занимавшихся изучением Востока2. При этом за рамками изучения остался богатый материал международных съездов ориенталистов, открываю- щий широкие возможности для подтверждения или опровержения универсальности предложенных Саидом тезисов.
Проведение международных съездов ориенталистов стало видным явлением в консолидации европейских ученых. Они позволяли как формировать общие подходы и обмениваться опытом, так и представлять национальные достижения в изучении лингвистики, антропологии, этнографии, истории, археологии и нумизматики Востока. Съезды или, как их часто называли, «конгрессы» ориенталистов, проводились регулярно с 1873 г. в крупнейших городах Европы. В 1876 г., местом проведения Третьего международного съезда стал Санкт-Петербург. Несмотря на интерес современных исследователей к освещению проблем ориентализма на российской почве3, опыт его организации4, а особенно его материалы остались практически не изучены.
В рамках настоящей статьи, не претендуя на комплексный анализ всех рассматриваемых на Третьем съезде ориенталистов вопросов, акцентируем внимание на подготовке и представлении на нем кавказских материалов. Такая оптика исследования позволит выяснить, насколько конструирование знания о Кавказе как о своем Востоке российскими учеными зависело от административных практик и было интегрировано в общее направление развития европейской ориенталистики XIX в.
Источниковую базу статьи образовали делопроизводственные материалы, хранящиеся в российских архивах. Дополнением к ним стали бюллетени и труды съезда, изданные организаторами вскоре после завершения мероприятия, а также материалы периодической печати, освещающие его работу.
* * *
Традиция проведения регулярных собраний ученых-востоковедов была заложена в 1873 г. на Первом съезде ориенталистов в Париже. Выбор Франции современники объясняли тем, что эта страна считалась лидером по количеству исследователей Востока, имевших мировую известность5. Съезд стал связующим звеном и координатором действий всего европейского ученого сообщества в данном направлении6. Его важным достижением стало решение проводить собрания ученых-ориенталистов ежегодно, избирая каждый раз новый город7.
Местом проведения следующего съезда был избран Лондон, «связанный с Востоком тысячью нитей: интересами торговли, распространения цивилизации, трудами миссионеров, работой по управлению восточными колониями, имеющими на своих восточ- ных землях языки и города, которые сейчас стали объектом нашей встречи и предметом наших помыслов»8. В отличие от Парижского съезда, в Лондоне была организована не только научная конференция, но и выставка, на которой демонстрировались предметы из области этнографии, литературы, науки и искусства, хранившиеся в Британском музее. В ходе последнего заседания съезд выбрал город, где предполагалось провести следующую встречу ученых. Им стал Санкт-Петербург – столица еще одной европейской страны, имеющей обширные владения на Востоке.
Это решение не было спонтанным. Еще до голосования присутствовавший в Лондоне старший делегат от Петербургского университета профессор В.В. Григорьев, «счел обязанностью своей узнать предварительно: угодно ли будет нашему правительству принять избрание Петербурга местом для следующего, Третьего конгресса ориенталистов?»9. Ответ министра народного просвещения был уклончивый. Д.А. Толстой рекомендовал российской делегации «только в таком случае принимать эту честь, если не окажется удобным и возможным уступить оную какому-либо из других госу-дарств»10.
Следуя инструкциям, русские делегаты холодно известили иностранных коллег, что они «не предлагают Россию на очередь для следующего съезда Конгресса, но, если большинством членов Совета Лондонского съезда оказана будет ей эта честь, то избрание принято будет с должной признательностью»11.
Несмотря на то, что официальные имперские власти с нежеланием отнеслись к идее взять обязательство по организации нового съезда, а делегаты от России «в означенном Совете не присутствовали, Петербург был избран местом для следующего конгресса ориенталистов по большинству – двух третей голосов»12. Григорьев довел это решение до сведения министра народного просвещения специальной телеграммой, после чего оно было опубликовано в европейских газетах.
Президентом Третьего конгресса ориенталистов был избран знакомый В.В. Григорьеву по службе в Средней Азии граф И.И. Воронцов-Дашков – участник Кавказской войны и военной экспедиции в Туркестан. Членами Организационного комитета стали российские ориенталисты В.В. Григорьев, К.П. Патканов, Д.А. Хволь-сон и А.А. Кун13, известные научными изысканиями о «российском Востоке». Они согласились с установкой лондонского съезда, что целью следующей встречи должно стать ознакомление ученых «с теми многочисленными работами по изучению Востока, произведенными в России, которые весьма мало или совсем неизвестны в Западной Европе»14.
Как показала переписка, решение ученых застало власти врасплох. Для того, чтобы оно воплотилось в жизнь, требовалось пройти сложную процедуру согласования. В декабре 1873 г. В.В. Григорьев от лица Организационного комитета обратился к министру народного просвещения с просьбой об исходатайствовании разрешения императора на созыв конгресса в столице15. Д.А. Толстой, в свою очередь обратился в Министерство иностранных дел, к канцлеру А.М. Горчакову, отметив, что отклонить предложение иностранных ученых с мировым именем «оказалось бы весьма неудобным»16. Канцлер, в свою очередь, провел консультации с Азиатским департаментом МИД, и, получив заверение, что министерство выражает «сочувствие к этому делу»17, обратился с прошением на имя Александра II. 24 марта 1874 г., после трехмесячной бюрократической волокиты, «Высочайшее соизволение» на открытие конгресса в Петербурге было получено18.
Разрешение императора на проведение съезда ученых в России нуждалось в финансовом обеспечении. Предварительные расходы были определены В.В. Григорьевым в размере 33 тыс. руб.19, однако в Министерстве финансов бюджет был сокращен до 10 тыс. «с тем, чтобы с этой суммой распорядители по устройству конгресса и сообразовывали все предстоящие расходы»20.
В марте 1875 г. Организационный комитет предоставил новую смету, сократив расходы до 15 тыс. руб. Чтобы придать ей большую убедительность, члены комитета пошли на шантаж, заявив, что в случае отказа они сложат с себя полномочия. «О впечатлении невыгодном для нас в политическом отношении, которое произвел бы отказ России от устройства конгресса, на который дано уже ее согласие, считаю излишним распространяться»21, – писал Григорьев. Опасение вызвать международный скандал, судя по всему, заставило министра финансов пойти на уступки. Он не только согласился с предложенной суммой, но даже ее увеличил до 18 тыс. руб.22
Одновременно возникла еще одна организационная проблема: И.И. Воронцов-Дашков, заочно избранный президентом съезда, отказался от должности, мотивируя это «независящими от него обстоятельствами»23. Члены оргкомитета выдвинули ему на замену В.В. Григорьева и решили заручиться поддержкой представителей высших эшелонов власти. Они предоставили звание почетного члена предстоящего конгресса министру народного просвещения Д.А. Толстому, и просили его ходатайствовать перед наследником престола «принять предположенный конгресс под свое милостивое покровительство, подобно тому, как чести этой удостоились другие подобные конгрессы от коронованных особ, во владении которых они имели место»24. Далекий от изучения Востока наследник укло- нился от ответа на предложение ученых25. Не увенчалась успехом и попытка обратиться к другому представителю правящей династии – третьему сыну Александра II – Владимиру Александровичу26. Великий князь не стал вступать в переписку, а лишь велел известить оргкомитет об отказе27.
Саботирование представителями царствующего дома предложения возглавить съезд, вероятнее всего было связано с тем, что ряд иностранных ученых, которые должны были присутствовать на мероприятии, по своим политическим убеждениям разделяли демократические взгляды. Так, президент первого съезда, француз Леон де Рони принимал участие в революционных событиях 1848 г. во Франции, а известный итальянский ориенталист Мишель Амари был связан с борцами за независимость Сицилии и движением Гарибальди. Эти люди явно выбивались из круга лиц, которые могли рассчитывать на симпатии со стороны монархических кругов России.
Григорьев в сердцах замечал, что подготовительные мероприятия шли «с неразлучной в подобных случаях медлительностью»28 и заняли более семи месяцев. Поняв, что за оставшееся время выполнить весь объем планируемых работ не удастся, оргкомитет предложил перенести открытие конгресса на год, назначив дату на 19 августа 1876 г. В связи с принятым решением, он просил выдать только часть из отпущенных денег на издание печатных материалов29.
Для проведения съезда оргкомитет составил примерный план отделов (секций), на которых «Русская Азия» должна была быть представлена Сибирью, Средней Азией, Северным Кавказом, Крымом и Закавказьем. В круг интересов каждого из них должны были войти картография, лингвистика, этнография, история и литература указанных территорий. Отдельные секции планировалось посвятить археологии и нумизматике, а также религиозным и философским учениям Востока. Для работы ученых было составлено 38 вопросов по наиболее дискуссионным проблемам. Предполагалось, например, выяснить можно ли считать данные нумизматики мусульманских стран более точным источником, чем записи восточных хроник30. Материалы из личного архивного фонда археолога и востоковеда Н.И. Веселовского свидетельствуют, что до начала работы съезда вопросы были распространены среди участников с пометками о том, кто из ученых предложил их для обсуждения31.
Кроме ученых для участия в съезде приглашался широкий круг лиц. «Все моряки наши, производившие описи берегов и морей Азии; все офицеры Генерального штаба, занимавшиеся съемками тех или иных ее пространств; все гражданские и военные чиновники, во время службы своей в Азии собиравшие этнографические, статистические, исторические и другие о ней сведения; все путешествовавшие в этой части света; все купечество наше, торгующее с ее народами»32 приглашались делиться знаниями.
К открытию съезда планировалось подготовить обозрение работ по изучению Востока, которые были проведены в России до 1875 г., как русских, так и иностранных авторов. Для реализации этой грандиозной задачи организаторы хотели предложить специалистам составить краткие обзоры трудов их предшественников с тем, чтобы иностранные делегаты на съезде могли получить «отчет о том участии, какое приняло уже до сих пор наше Отечество в общеевропейском стремлении усвоить себе знание Востока и разъяснить его судьбы»33.
8 мая 1875 г. состоялось расширенное совещание оргкомитета, на котором присутствовало около 40 исследователей, привлеченных к реализации проекта. В их число входили такие известные специалисты как М.И. Венюков, А.В. Каульбарс, В.В. Григорьев, К.П. Патканов, А.А. Цагарели, О.Р. Остен-Сакен, П.И. Лерх, В.Р. Розен и другие. Они разработали схему глав будущего издания, взяв за основу географический принцип. Отдельные главы посвящались Сибири, Кавказу, Средней Азии и другим территориям. Для того чтобы все тексты соответствовали единой концепции, было предложено внутри глав выделять следующие разделы: картографический, этнографический, лингвистико-литературный и археолого-исторический. В каждом из них следовало помимо библиографического обзора и аннотаций существующей отечественной литературы указать, какие проблемы в избранной отрасли регионального знания остались неисследованными. Каждому автору было предложено ограничить объем своего очерка 5 печатными листами.
Несмотря на финансовые ограничения, по инициативе графа Д.А. Толстого в план работы конгресса была включена и организация выставки «всякого рода предметов восточного происхождения в археологическом, археографическом, этнографическом и литературном отношениях»34. Ученых вдохновил опыт Лондонского съезда, и они решили организовать нечто подобное. Заведывать выставкой должен был П.И. Лерх – член Императорской Археологической комиссии, получивший известность благодаря участию в научных экспедициях в Средней Азии.
В отличие от британских коллег, организаторы российской выставки предполагали не трогать коллекции столичных музеев и научных учреждений, а сделать акцент на показе предметов из частных собраний35. В обращении к неравнодушным соотечественникам, оргкомитет писал, что многие из людей, побывавших на Востоке по служебным, научным, коммерческим, или личным делам, привезли домой «хоть несколько любопытных вещей»36, которые просили представить по рубрикам: надписи на восточных языках, рукописи и старинные документы, старинные географические карты азиатских стран, зарисовки художников или снимки портретов и местностей, нумизматика восточных, особенно мусульманских народов. Проблема научности критериев, по которым владельцы артефактов будут отбирать из своих коллекций предметы на выставку организаторами съезда, не поднималась.
Наиболее интересным был этнографический сектор выставки, на котором планировали представить предметы, «относящиеся к современному быту народов Азии»37. Они сводились к элементам мужской и женской одежды, украшениям, оружию, орудиям труда и домашней утвари, а также образцам производимых изделий домашних промыслов. Для того чтобы подчеркнуть идею благотворного влияния имперской политики на восточных окраинах, этнографические материалы предлагалось дополнить полным собранием карт и планов региона, экземплярами местной периодической печати и краеведческих изданий.
В целом, ученые, решившие представить восточные артефакты, столкнулись с проблемой того, как сочетать в экспозиции научную и развлекательную стороны38. Задумываясь над тем, как сделать выставку «наставительнее и вместе с тем интереснее»39, российские ориенталисты быстро пришли к той же мысли, что и их западные коллеги: кроме демонстрации восточных артефактов и предметов культуры, предполагалось показывать и живых представителей своего Востока. В этом вопросе они ориентировались на примеры, напрямую позаимствованные из европейских практик.
Указывая на «ученую и государственную пользу» показа жителей восточных окраин, оргкомитет ссылался на опыт Лондонского конгресса, нахождение на котором «туземных» представителей колоний служило доказательством культуртрегерского влияния Великобритании. Отмечая, что культурная интеграция Кавказа и Средней Азии ведет к распространению среди местного населения русского языка, оргкомитет полагал, «что означенный факт полезно было бы засвидетельствовать на Петербургском конгрессе ориенталистов таким же образом, как факт британского влияния в Индии засвидетельствован был на Лондонском»40.
Исходя из подобных соображений, оргкомитет разослал в администрации Сибири, Кавказа и Средней Азии предложение прислать на съезд нескольких представителей управляемых ими народов, «знакомых более или менее с русским языком»41. Помимо наглядной демонстрации успехов имперской программы русификации, они должны были «доставить посетителям выставки возможность ознакомиться всесторонне с обитателями Русской Азии, а именно: с их телесными особенностями, одеждой, жилищами, обстановкой домашнего быта и теми произведениями, в которых проявляются их вкусы и умственные способности»42.
Из европейской практики была позаимствована не только идея сочетания экспозиции этнографических предметов с показом живых людей, но и самые современные на то время технические средства. Организаторы выставки предполагали широко использовать «фотографические портреты возможно большего размера с представителей всех народностей, сделанных в фас и профиль с каждого лица, без всяких головных уборов, чтобы ясно виден был характер черепа и черт лица»43. Кроме них следовало представить и «фотографические снимки некоторых из туземцев, снятые с голых тел во весь рост сзади и спереди, чтобы можно было судить об общем складе тела, роста, соотношении членов, мускульности и т.д.»44. Снимки следовало сопроводить информацией об имени, возрасте, этнической принадлежности, сословии, месте жительства и происхождении изображенного.
Рекомендации оргкомитета к отбору фотографического материала и построению композиции снимков свидетельствует, что российские ученые-ориенталисты, как и их европейские коллеги, поддались «соблазну использовать возможности фотографии для конструирования образа воображаемого другого»45. Снимки не только фиксировали антропологические черты жителей Востока, но и отражала набор стереотипов своего времени, так как через них передавалась идея об экзотических культурах, застрявших в далеком прошлом.
В подходе к демонстрации местных жителей, представления ученых-ориенталистов и имперской администрации тесно коррелировали. Так, в ответ на просьбу В.В. Григорьева в качестве «представителей русифицирующейся Азии», прислать в Петербург трех «инородцев»: таджика, узбека и маньчжура из Джунгарии46, генерал-губернатор Туркестана, К.П. Кауфман «вполне признавая пользу в государственном и научном отношении этой меры», предложил расширить список и «увеличить число их до пяти, прибавлением киргиза и может быть, хивинского узбека, если такого можно будет найти»47. Все пять представителей от Туркестанского края были доставлены на съезд за несколько дней до начала его работы.
* * *
Для реализации намеченных планов, в том числе по подготовке выставки, оргкомитет вступил в переписку с администрациями восточных окраин Российской империи. Об отношении кавказских властей к задуманному мероприятию можно судить по документам из фонда Кавказского комитета, хранящегося в РГИА.
С просьбой об оказании содействия, 27 февраля 1875 г., В.В. Григорьев обратился к управляющему делами Кавказского комитета Н.В. Гулькевичу. Письмо сопровождалось запиской, в которой подробно излагались пожелания петербургского оргкомитета по поводу представления на съезде кавказских материалов. «Для России, которая может считаться столько же азиатской, сколько и европейской державой, конгресс этот должен иметь особое значение, – подчеркивалось в документе. – Нам предстоит показать перед знатоками и исследователями Востока, имеющими приехать изо всех стран Европы, что мы, русские, сделали с своей стороны для изучения Азии и каково было наше на нее влияние»48.
Материалы Северного Кавказа и Закавказья должны были занять как на самом съезде, так и на выставке едва ли не первое место. Представляя регионы, давно находившиеся под контролем России, они открывали широкие возможности для демонстрации успехов российской политики в деле исследования и «цивилизации» Востока. В связи с этим Григорьев предлагал кавказскому наместнику великому князю Михаилу Николаевичу «принять дело под высокое покровительство» и «оказать могущественное содействие свое к осуществлению предположений комитета, в виду их высокого научного значения и патриотического характера»49.
Прежде всего, желательно было, чтобы кавказский наместник, как член императорской фамилии и «доблестный правитель лучшей из азиатских окраин России», принял на себя звание «покровителя» съезда50. Ссылаясь на опыт предыдущих международных конгрессов, прошедших в Париже и в Лондоне, Григорьев подчеркивал, что покровительство великого князя станет залогом успеха, подтолкнув к усиленной деятельности как отечественных, так и зарубежных ориенталистов. При этом организаторы допускали, что в случае нежелания или не возможности оставить Тифлис, Михаил Николаевич мог ограничится только согласием на использовании его имени в качестве покровителя конгресса.
Записка включала также перечень рекомендаций по подготовке кавказских материалов. Для принятия участия в работе конгресса следовало командировать в Петербург местных ученых-ориенталистов, одного или двух, занимающихся лингвистическими и археологическими исследованиями в крае.
Так же было рекомендовано отправить на Петербургский съезд несколько лиц из местных кавказских жителей, «не оставивших еще костюма своего, но хорошо уже усвоивших русский язык, чтобы ту- земцы эти были живой демонстрацией цивилизаторского влияния России в пределах Кавказа и Закавказья»51. При этом организаторы ссылались на поддержку по этому вопросу со стороны администраций других азиатских окраин.
Для достойного представления Кавказа на выставке съезда следовало прислать в Петербург предметы «местной древности, если таковые не слишком громоздки: плиты с надписями, разные камни, монеты прежнего времени, сосуды, оружие, рукописи на туземных языках и т.д.»52. К записке прилагался экземпляр «Правительственного вестника», в котором содержалось подробное перечисление таких предметов и общий подход к их отбору.
Особое внимание обращалось на те предметы, которые могли познакомить посетителей выставки с особенностями физического типа населения Кавказа, их одеждой, обстановкой домашнего быта, промыслами, продукцией ремесленного производства. Такие предметы могли доставляться в оригиналах или в виде моделей. Значительную роль в решении поставленной задачи играла фотография.
Наконец, отдельное место в организации выставки кавказских материалов отводилось печатным изданиям: книгам и повременным изданиям, опубликованным в г. Тифлисе на правительственный счет, а также географическим картам. В том числе, следовало привезти образцы изданий на местных языках53.
Одновременно указывалось на то, что членом-корреспондентом своим в Тифлисе Петербургский оргкомитет назначил председателя местной археографической комиссии А.П. Берже, известного в научных кругах не только как издателя документов по истории присоединения Кавказа к России, но и как ученого-ориенталиста, много сделавшего для изучения этнографии и лингвистики региона54.
Мнение великого князя Михаила Николаевича по поводу задуманного мероприятия и его отношение к принятию звания «покровителя» съезда Н.В. Гулькевич выяснил не прибегая к излишней огласке. Он действовал через канцелярию кавказского наместника, «для того, чтобы, с одной стороны, не обеспокоить напрасно его высочество и в случае нежелания великого князя не поставить комитет в неловкое положение получив официальный отказ, и чтобы этот отказ не повредил самому делу, когда он сделается известным среди русских и иностранцев»55. Одновременно Гулькевич передал в канцелярию программную записку оргкомитета с пожеланиями, «чтобы Ваш Кавказ явился на конгресс в блистательном виде и не отстал бы от подобных стран, фигурировавших в Лондоне»56.
20 апреля 1875 г. из канцелярии кавказского наместника был получен ответ о том, что Михаил Николаевич, вполне сочувствует цели конгресса и для подготовки к нему распорядился образовать под председательством А.П. Берже особую комиссию57. Однако от звания покровителя съезда он отказался.
В состав созданной комиссии вошли Г.И. Радде (директор Кавказского музея, ставшего одним из крупнейших научных центров по изучению и популяризации знания по различным отраслям кавказоведения), Н.И. Воронов (управляющий делами Кавказского отдела Русского географического общества и редактор «Сборника сведений о кавказских горцах»), Д.А. Никитин (местный фотограф), И.И. Стебницкий (начальник Военно-топографического отдела штаба Кавказского военного округа)58.
Протоколы заседаний комиссии показывают, что конкретно планировалось сделать для того, чтобы выдвинуть Кавказ на первое место не только на конгрессе, но и на выставке59. По итогам заседания 22 апреля 1876 г. предлагалось командировать на конгресс шесть представителей от местных народов: дагестанца, кабардинца, чеченца, осетина, абхазца и закавказского татарина в их национальных костюмах. Вместе с ними планировалось составить полный альбом фотографий типов местных жителей, оружия, утвари, одежды, жилищ и прочих предметов, характеризующих внутренний быт здешнего населения. Следовало также подготовить этнографическую коллекцию, характеризующую бытовую сторону местного населения, которая будет особенно интересна ученым-ориенталистам. Ее планировали составить из предметов, уже имеющихся в Кавказском музее, а также приобрести новые экспонаты по усмотрению Г.И. Радде. Этнографические материалы должны были быть дополнены географическими картами Кавказа, выбор которых поручался И.И. Стебницкому. Также планировалось отправить в Петербург несколько экземпляров «Сборников сведений о кавказских горцах», выпускаемых при Кавказском горском управлении, а также тома «Актов Кавказской археографической комиссии» для передачи в дар крупнейшим библиотекам Европы60.
На осуществление указанного плана по подсчетам комиссии требовалось 8 100 руб., при этом расходы распределялись следующим образом: на командирование шести представителей от Кавказа – 3 000 руб., на фотоальбом – 3 000 руб., на приобретение этнографических предметов – 1 500 руб., и на расходы по отправлению предметов на выставку и возвращение их в Тифлис – 600 руб.61 Интересно отметить, что запрашиваемая Берже сумма в полной мере коррелировала со средствами, выделенными Туркестанским генерал-губернатором на подготовку для съезда материалов по Средней Азии (7 904 руб.)62
Кавказский наместник согласился с предложениями комиссии, однако бюджет сократил до 4 000 руб., никак не комментируя свое решение63. Обращения Берже об увеличении средств остались без внимания. В сложившейся ситуации ничего не оставалось как пойти на сокращение пунктов расходов. В протоколе заседания от 14 мая 1876 г. значились уже следующие цифры: на пополнение этнографической коллекции Г.И. Радде – 1 500 руб., на создание альбома фотографий – 2 000 руб. и на пересылку вещей в Петербург и обратно в Тифлис – 500 руб.64
Приняв во внимание, что одним из главнейших ходатайств оргкомитета съезда было присутствие на мероприятии представителей от местного населения Кавказа, комиссия предложила командировать таких делегатов за казенный счет. При этом, владеющих русским языком кандидатов подыскали из среды кавказского чиновничества: от Дагестана – Джарский наиб подпоручик Омаров, от Ка-барды – поручик Атажукин, от Чечни – судебный следователь Ну-хинского уезда Ахриев, от Абхазии – окончивший курс в Никитском училище садоводства Званбий65. Это были представители формирующейся местной горской интеллигенции, активно включившиеся в организованное империей интеллектуальное освоение своей новой окраины. Например, Ч.Э. Ахриев (1850–1914) войдет в историю как первый ингушский этнограф и просветитель, а К.М. Атажукин (1841–1899) станет известен как составитель кабардинского букваря и исследователь адыгского фольклора.
Если все пять представителей от Туркестанского края своевременно прибыли на съезд, то делегатов от Кавказа местная администрация так и не нашла возможности отправить. В опубликованном перечне участников съезда от азиатских окраин Российской империи их имена отсутствовали66. Единственным представителем от Кавказского наместничества оказался А.П. Берже, на плечи которого и легла вся ответственность «блистательного» представления региона в глазах российских и зарубежных ориенталистов67. Получив прогонные, суточные и квартирные на 4 месяца, а также «пособие на подъем в размере 600 руб.»68 он заблаговременно выехал в Петербург, чтобы успеть прибыть за несколько дней до начала работы съезда.
* * *
Торжественное открытие конгресса состоялось 20 августа 1876 г. в актовом зале Петербургского университета. Накануне были определены основные отделы (секции) конгресса и их руководители. Для выполнения своей миссии А.П. Берже предстояло принять участие в работе III отдела по Северному Кавказу и IV отдела по Закавказью.
Заседание III отдела состоялось вечером 21 августа. Из-за внезапной болезни председателя честь его открытия выпала на долю Берже, который еще накануне был определен одним из его заместителей. Он сообщил краткие сведения о народной промышленности на Кавказе, образцы которой были доставлены на выставку. Особое внимание в его докладе было обращено на предметы местных ремесел, которые еще не были вытеснены европейскими товарами и не подверглись влиянию западной культуры. Речь шла о шерстяных и шелковых тканях, а также медных сосудах69. Выступление Берже подчеркивало полезность для российских потребителей изделий этнических культур восточных окраин, рекламировало их экономический потенциал.
Обсуждение кавказской проблематики было продолжено 2 августа, на заседании отдела по Закавказью. Выполняя главную установку съезда – познакомить мировую общественность с вкладом российских ученых в изучение Востока, – на заседании был представлен недавно опубликованный библиографический труд М.М. Миансарова70. Он включал в себя подробный перечень изданий по Кавказу, подготовленный по заданию Военного министерства.
На заседании отдела по Закавказью выступал и А.П. Берже. На этот раз он представил рукописный сборник азербайджанских песен. Проблематику по лингвистике закавказских народов продолжил преподаватель грузинского языка в Петербургском университете А.А. Цагарели, который выступил с сообщением о сборнике переводимых им грузинских басен и сказок XVII в. После него выступал Д.И. Чубинов, бывший ординарный профессор грузинской словесности в Петербургском университете, который заострил внимание на необходимости изучения грузинских законов как источника сведений для истории нравов и обычаев грузин, а также феодальной системы в Грузии, которая могла бы иметь значение и для исследований истории феодализма в Европе71.
В целом, рассмотрение кавказской проблематики на обоих заседаниях свелось к представлению отдельных, порой не связанных между собой сюжетов, что не давало возможности составить общую картину результатов научного изучения региона.
Не лучше обстояло дело с печатными материалами съезда. Только спустя три года после завершения работы удалось опубликовать его труды. Издание включало два тома. В первом томе, помимо сведений о подготовительных работах организационного комитета и занятий ученых на самом съезде, были напечатаны статьи отечественных ученых и обозрения работ по изучению Востока. Во второй том вошли работы иностранных участников съезда.
Материалы по Кавказу были представлены этнографическим и картографическим обозрениями. Вместо развернутой характеристики лингвистико-литературных произведений по Кавказу ограничились библиографическим очерком армянской исторической литературы, а археологическое обозрение и вовсе отсутствовало.
Автором этнографического обозрения Кавказа был А.П. Берже, работа которого стала попыткой, с одной стороны, языковой классификации кавказских народов, с другой стороны, систематизации научных монографий и статей по местной этнографии. Ценность сочинению Берже придавало включение в него статистических сведений об этническом и религиозном составе населения Кавказского наместничества, количестве расположенных здесь городов, селений и казачьих станиц. Приведенные данные отличались высокой степенью репрезентативности, что подтверждается принадлежностью Берже к чиновникам кавказской администрации и доступом к данным официальной статистики.
Большую часть статьи составило рассмотрение истории изучения народов Кавказа, которое, по словам самого Берже, «развивалось по мере успехов нашего оружия над непокорными племена-ми»72. Следуя предложенной оргкомитетом съезда программе, Берже в хронологической последовательности показывал, кто и какие изыскания осуществлял в регионе в период со второй половины XVIII в. и до созыва съезда. Берже обозначил пробелы в изучении населения Кавказа и причины их появления. Так, важным недостатком современных знаний о регионе, по его мнению, было слабое развитие антропологических исследований вследствие больших затруднений в получении нужных для этого материалов.
Завершалось обозрение перечнем изданий по истории и этнографии Кавказа, подготовленных как отечественными, так и зарубежными исследователями. По объему он существенно уступал каталогу Миансарова. Однако, в отличие от последнего, выполнял роль тематического указателя, с помощью которого любой желающий мог без труда подобрать себе издания по общественному и домашнему быту кавказских народов, их одежде и вооружению, промыслах и ремеслах, религиозных верованиях и обрядах, обычному праву.
Картографическое обозрение Кавказа было подготовлено И.И. Стебницким73. Оно включало характеристику тех географических исследований, которые проводились на Кавказе в XIX в. Главный акцент был сделан на трудности, которые приходилось преодолевать ученым в условиях военных столкновений с горцами. Хотя труд Стебницкого отличала излишня описательность, он справился с поставленной перед ним задачей и показал динамику географического изучения Кавказа, которое было еще далеко от завершения.
В целом, представленные на кавказских секциях доклады и опубликованные материалы отражали общую специфику изучения своего Востока в Российской империи, с его ориентацией на получение практического знания в области этнографии, лингвистики и картографии.
* * *
Таким образом, история организации и проведения Третьего международного съезда ориенталистов в Петербурге показывает, что Российская империя входила в число стран, для которых изучение Востока являлось частью государственной политики. Несмотря на то, что добиться покровительства членов императорской фамилии так и не удалось, на работу съезда и публикацию его материалов были выделены значительные средства, позволившие собрать в Петербурге ведущих ученых-ориенталистов и показать научные достижения отечественных востоковедов.
Востоковедческие исследования в России имели свои специфические черты. Они были направлены не только на внешний Восток, но и на свои азиатские окраины, среди которых Кавказ занимал едва-ли не первое место. Организация подготовительных работ по представлению на съезде кавказских материалов показала их очевидную зависимость от решения властей. Через выделяемое финансирование кавказский наместник влиял на объем и характер представленного на съезде научного знания о Кавказе. Власть жестко контролировала инициативы ученых, поскольку изучение региона рассматривало в качестве важной составляющей его «цивилизации» и интеграции в имперское государственное пространство.
Вместе с тем кавказские материалы съезда показывали, что знания о реальном Востоке были весьма разрозненными и фрагментарными. Их представление на съезде ограничилось сферой научных интересов отправленного в Петербург А.П. Берже, сочетавшего в себе исследователя и администратора. В работе кавказских секций съезда представители местных этнических групп, даже тщательно отобранные на подготовительном этапе, так и не были представлены.
Список литературы Изобретение своего Востока: Третий съезд ориенталистов в Санкт-Петербурге и его кавказские материалы
- Саид Э.В. Ориентализм. Москва, 2021.
- Ориентализм vs ориенталистика: Сборник статей. Москва, 2016; Говорунов А.В., Кузьменко О.П. Ориентализм и право говорить за другого // Международный журнал исследований культуры. 2013. № 2 (11). С. 26–43; Кореневский А.В., Сень Д.В. Запад и Восток: власть (не)знания и право «говорить за чужого» // Новое прошлое = The New Past. 2018. № 1. С. 8–30; Чисталев М.С. Переосмысление «Ориентализма» Э. Саида в современном западном и отечественном научном дискурсе // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27. № 5. С. 1352–1364.
- Jersild A. Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845 – 1917. Montreal; London; Ithaca (NY), 2002; Gutmeyr D. Borderlands Orientalism or How the Savage Lost his Nobility: The Russian Perception of the Caucasus between 1817 and 1878. Wien, 2017; Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм: Азия в российском сознании от эпохи Петра Великого до Белой эмиграции. Москва, 2019.
- Васильев А.Д. Формирование российско-кашгарских дипломатических связей в 70-х гг. XIX века: А.Н. Куропаткин и Якуб-Бек // Проблемы востоковедения. 2022. № 3 (97). С. 26–32.
- Douglas K. Transactions of the Second session of the international congress of orientalists, held in London in September, 1874. London, 1876. P. 1.
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 2.
- Nature (UK).1874. September, 10. P. 375.
- Douglas K. Transactions of the Second session of the international congress of orientalists, held in London in September, 1874. London, 1876. P.1.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 74.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 76.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 74–74об.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 74об.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 74об.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 74об.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 76об.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 77.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 78.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 91об.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 86–86об.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 82.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 86об.–87.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 93.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. II.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 98об.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 99.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 114.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 116.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. II.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 96–96об.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XXXVIII.
- Российский государственный архив литературы и искусства (РГА-ЛИ). Ф. 118. Оп. 1. Д. 1253. Л. 1–4.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. IV–V.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. IX.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. VI.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 537. Л. 75.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. VI.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. VIII.
- Maxwell А. Colonial Photography and Exhibitions: Representation of the “Native” and Making of European Identities. London; New York, 2000. P. 13.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XIV.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XV.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881.С. XV.
- 42.Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XVI.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XVI.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XVI.
- Maxwell А. Colonial Photography and Exhibitions: Representation of the “Native” and Making of European Identities. London; New York, 2000. P. 13.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XV.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XVIII.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 2.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 2.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 2об.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 2об.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 4–4об.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 3.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 3об.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 7об.
- РГИА. Ф. 1268. Оп. 21. Д. 54. Л. 8.
- РГИА. Ф. 1268. О п. 21. Д. 54. Л. 9–9об.
- Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН (АВ ИВР РАН). Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 2об.
- АВ ИВР РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 7.
- АВ ИВР РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 8.
- АВ ИВР РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 8.
- Третий международный съезд ориенталистов. Санкт-Петербург, 1881. С. XVIII.
- АВ ИВР РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 3.
- АВ ИВР РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 9об.
- АВ ИВР РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 9об.–10.
- Труды Третьего международного съезда ориенталистов в Санкт-Петербурге: 1876. Т. 1. Санкт-Петербург, 1879. Т. 1. С. XLVI.
- Правительственный вестник. 1876. № 91.
- АВ ИВР РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 29. Л. 4.
- Труды Третьего международного съезда ориенталистов в Санкт-Петербурге: 1876. Т. 1. Санкт-Петербург, 1879. С. LX.
- Миансаров М.М. Bibliographia Caucasica et Transcaucasica: Опыт справочного систематического каталога печатных сочинений о Кавказе, Закавказье и племенах, эти края населяющих. Т. 1. Санкт-Петербург, 1874–1876.
- Труды Третьего международного съезда ориенталистов в Санкт-Петербурге: 1876. Т. 1. Санкт-Петербург, 1879. С. XCIV.
- Берже А.П. Этнографическое обозрение Кавказа // Труды Третьего международного съезда ориенталистов в Санкт-Петербурге: 1876. Т. 1. Санкт-Петербург, 1879. С. 301.
- Стебницкий И.И. Картографическое обозрение Кавказа и Закавказья // Труды Третьего международного съезда ориенталистов в Санкт-Петербурге: 1876. Т. 1. Санкт-Петербург, 1879. С. 361–370.