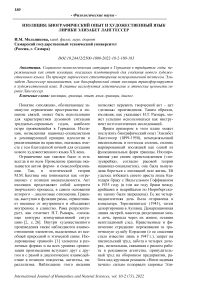Изоляция: биографический опыт и художественный язык лирики Элизабет Ланггессер
Автор: Мельникова И.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 10-2 (73), 2022 года.
Бесплатный доступ
Социально-психологическая ситуация в Германии в тридцатые годы, переживаемая как опыт изоляции, оказалась плодотворной для создания нового художественного языка. На примере лирического стихотворения немецкоязычной поэтессы Элизабет Ланггессер показывается, как биографический опыт изоляции трансформируется в художественный язык. В статье исследуются эстетические и этические ценности лирики Ланггессер.
Изоляция, граница, опыт, язык границы, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/170196554
IDR: 170196554 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-10-2-180-183
Текст научной статьи Изоляция: биографический опыт и художественный язык лирики Элизабет Ланггессер
Понятие «изоляция», обозначающее замкнутое ограничение пространства и лишение связей, может быть использовано для характеристики духовной ситуации тридцатых-сороковых годов, наиболее остро проявившейся в Германии. Изоляция, возведенная национал-социалистами в доминирующий принцип идеологии и реализованная на практике, оказалась вместе с тем благодатной почвой для создания нового художественного языка ХХ века.
Ограничение как таковое было и есть всегда и во всем Проведение границы оказывается актом формо- и смыслообразова-ния. Так, в эстетической теории М.М. Бахтина она понимается как «отрешение» с позиции вненаходимости. Акт изоляции представляет собой алгоритм творческого процесса, в самом основании которого - диалоговые отношения. Граница, выступая в функции рамы, ограничивает внешнее от внутреннего и объединяет внутреннее в единство. Рама репрезентирует, как отмечает Н.Т. Рымарь, «основные контуры коммуникативной ситуации» [2, с. 26]. Внутри художественного произведения также наблюдаются взаимоотношения элементов, выделенных из всеобщей природной и этической связи. Изолированные «рамкой» [1] элементы в различных формах и на всех уровнях организации произведения вступают друг с другом и с рамой в диалогическое взаимодействие в позиции тождества, антитезы, параллелизма. Наблюдение этого явления позволяет пережить творческий акт - акт «деланья» произведения. Таким образом, изоляция, как указывает Н.Т. Рымарь, может успешно использоваться как инструмент поэтологических исследований.
Ярким примером в этом плане может послужить биографический опыт Элизабет Ланггессер (1899-1950), немецкоязычной писательницы и поэтессы сплошь, сплошь маркированный изоляцией как одной из функциональных форм границы. Изолированная уже своим происхождением («полуеврейка», согласно расовой теории национал-социалистов), она была вынуждена бороться с изоляцией всю жизнь. Ей удалось избежать своего ареста лишь благодаря браку с Вильгельмом Гоффманном в 1935 году (в том же году браки между арийцами и неарийцами по Нюрнбергскому закону были запрещены). Ее же четырнадцатилетняя дочь была отправлена в концлагерь Терезиенштадт (1943), затем депортирована в Аушвиц. Демаркационная линия лагерей, навсегда разделившая мать и дочь, прошла через их жизни, оставив неизгладимый след. Нравственные и физические страдания: переживания за трагическую судьбу Корделии (о ее спасении стало известно лишь в 1947 г.), запрет на писательский труд, забота о четырех дочерях, нелегальная, связанная с риском работа в рекламном агентстве, принудительный труд на оборонном предприятии, работа над крупным романом «Неизгладимая печать» сильно подорвали здоровье Эли- забет Ланггессер. Завершив работу над последним романом “Märkische Argonaut-enfahrt” (1950), она умерла от прогрессирующего склероза. Три крупных романа (“Gang durch das Ried”, 1936; “Das unausgelöschliche Siegel”, 1946; “Märkische Argonautenfahrt”, 1950) сделали ее имя известным далеко за пределами Германии. Однако не менее интересным и эстетически ценным представляется ее лирическое наследие.
Характерным для творчества Ланггес-сер является приверженность историческим сюжетам, развертывающимся как в прозаических, так и в лирических произведениях, а также верность религиозной тематике, проявляющейся в многочисленных метафорах и сказочных образах. Знакомство с Вильгельмом Леманом в 1931 году привнесло новые ориентиры в ее поэтический мир. Однако ее восприятие природы, населенной демонами и ангелами, мифическими и сказочными персонажами, растениями и животными, не вписывается в лемановскую систему координат. Уже в 1926 году она критически разошлась с «магическим» направлением, набиравшим в то время силу и позднее оказавшим влияние на послевоенную литературу. Свою поэтическую задачу Ланггессер видела в том, чтобы помочь природе в «освобождении». В ее космосе царят Бог и сатана, сказочные и мифологические персонажи, представители растительного и животного миров. Перегруженная мифическими и абстрактными образами, лирика Ланггессер не всегда поддается расшифровке. Впрочем, она сама считала, что искусство, «по своей природе, аристократично, склонно к одиночеству и замкнуто в себе» [4, с. 222]. Ее лирика балансирует на грани герметической, однако полностью не закрывается от читателя, провоцируя на более вдумчивое и внимательное прочтение.
Игра автора с границей может быть обнаружена и в том, что лирику Ланггессер нельзя без потерь «вставить» в рамки только религиозной, либо природномагической поэзии.
Обращение Ланггессер к родовым структурам лирики обусловлено нравственно-эстетическими задачами, встав- шими перед ее поколением поэтов. Необходимость вновь обрести опору в условиях крушения надежд, связанных с Веймарской республикой, на демократические преобразования, и все более набирающего силу тоталитарного режима вызвало потребность в языке, способном честно рассказать своим соотечественникам о грядущих событиях. Лирика Ланггессер предстает как оппозиция национал-социалистической литературе, агрессивной и верноподданической, воспевающей Гитлера и его политику и не предполагающей диалога. Оспаривая или подтверждая границы рода и жанра (метра, ритма и т.д.), художник создает и пересоздает новые границы, которые, являясь границей его произведения, одновременно дают жизнь роду и жанру в новом материале. Исходя из своего жизненного опыта, творческих задач, системы ценностей и нравственно-эстетических представлений, он сообразует их с мерой, присущей роду и жанру, которая задает параметры, способы и вид деятельности творческого субъекта.
Граница обнаруживается на разных уровнях организации произведения. Так, в названиях стихотворений ( VorfrUhling, Spate Zeit, Winterwende, FrUhsommer, Daphne an der Sommerwende) представлен «круг явлений реальности», «к которым прикоснулась художественная мысль» [3, с. 167], в которых можно проследить тему границы как поворот, рубеж и переход от одного к другому. Тема границы («Дождливое лето») развертывается в противопоставлении мотивов завершения жизни (облетает мак, смерть снегиря, роза обронила лепестки) мотиву возникновения жизни (юный выводок птенцов, разрастание татарника, вызревание в коробочке мака). Вечные образы (Норна, прядущая нить, которая соединяет прошлое, настоящее и будущее; Гермес, Эвредика, Орфей, пересекшие границу жизни и смерти, волшебник Клингзор) раздвигают рамки пространства и времени, поддерживая и разрабатывая тему жизни и смерти. Обозначая тему, поэт обнаруживает свою позицию, поэтические интенции и перспективу, с которой возможно эстетически завершить мир произведения.
В стихотворении “Daphne an der Som-merwende” также угадывается тема грани- цы: «верхушка» лета, за которой следует переход природы к другому времени года.
“…UT ERUAM TE” Wird die Verfolgte sich retten vor seiner düsteren Brunst? Ihre Gelenke zu ketten, wirft er ihr Erdrauch und Kletten zu als ein Zeichen der Gunst.
Glühend, erreicht sie des flachen, ländlichen Gartens Geviert, Löwenmaul sperrt seinen Rachen, ach, und wie feurige Drachen blühen die Bohnen verwirrt.
Mitleidlos wölben die lauen Frühsommeräpfel die Brust, schließt ihre Finger, die schlauen, Demeter schnell um der blauen Kapseln betäubende Lust.
Ist eine Zuflucht noch offen? Lodern dort Fittiche auf?
Da, zwischen Seufzen und Hoffen, hemmt, von Verwandlung betroffen, plötzlich das Jahr seinen Lauf,
Und wie sich Erbsen entbinden jäh von der goldgrünen Wand, perlen im Anschlag die linden Tage und rollen und schwinden kühl durch des Hochsommers Hand.
Образ Дафны, заявленный в названии, отсылая к культурному коду, поддерживает и развертывает тему мотивом превращения как спасения от преследования. Перед нами картина природы, изображенной в самом пике расцвета и накала ( an der Sommerwende ), после которого следует увядание.
Анализ предметного состава художественного мира (32 и 2 существительных в названии) позволяет обнаружить хорошо представленный растительный мир. Названия частей человеческого тела относятся также к растениям и мифическим существам Деметре и Дафне. Присутствие человека можно обнаружить лишь в пространственно-временной организации поэтического мира (Gartens Geviert, die Tage, das Jahr). Человека выдают и существительные, относящиеся к эмоциональноволевой сфере (Lust, Seufzen, Hoffen, Gunst). За наречием «безжалостно» (mitleidlos), характеризующим здесь явление природы, окончательно проступает параллелизм образов мира природы и мира лирического субъекта, его мировосприятия. Душевное состояние «я» не сравнивается с образом природы, а мифологически отождествляется. «Я» – и есть преследуемая Дафна, обожженная безжалостным зноем лета. Картина мира и картина душевного мира лирического субъекта оказываются параллельными. Граница между ними стирается. Вместе с тем образ мира в стихотворении не может быть сведен только к буквальному пониманию. Воз- можно и метафорическое прочтение. К сер. Образ ее мира строится на диалоге этому подталкивают приведенные в качестве эпиграфа слова из Библии: «… чтобы избавлять тебя» (Иер. 1,8). Они, выступая в качестве общекультурного контекста, оказываются своего рода рамой, задающей иной угол видения. Преследование Дафны и ее бегство в поисках приюта могут прочитываться и как метафора преследования евреев в нацистской Германии. Иначе начинают звучать качества, выраженные прилагательными и наречиями: düster, glühend, feurige, mitleidlos, kühl. Они вызывают в памяти зловещие образы печей и костров. Мир наполняется напряжением и беспокойством, тревогой и страхом. И все-таки – это не весь мир Элизабет Ланггес- двух типов выразительности, разных по своему отношению к действительности – архаическом языке параллелизма и метафоры. Переход от одного плана к другому создает эффект мерцания смысла.
Принципиальная несводимость только к одному из планов составляет не только эстетическую, но и этическую ценность лирики Ланггессер, поскольку может быть рассмотрена как модель мировосприятия, в основании которой диалог. Парадигма мышления, основанная на диалоге, свойственная творческому акту, позволяет преодолеть изоляцию и не стать чужим самому себе.
Список литературы Изоляция: биографический опыт и художественный язык лирики Элизабет Ланггессер
- Мельникова И. М. Опыт границы и язык границы (на материале лирики Й.Бобровского): автореф. дис. … канд. филол. наук. - Самара, 2008. - 17 с.
- Рымарь Н.Т. О завершающей функции рамы в литературном произведении // Рама и граница. Граница и опыт границы в художественном языке. Вып. 3 / науч. ред. Н.Т.Рымарь; Rahmen und Grenzen. Grenzen und Grenzerfahrungen in den Sprachen der Kunst. Bd. 3. Hrg. v. N.Rymar; Germanistische Institutspartnerschaft Bochum - Samara. - Самара: Самар. гуманит. акад., 2006. - С. 19-33.
- Kayser, W. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft / Wolfgang Kayser. - Bern: 15. Auflage. Franke Verlag Bern und München, 1971. - 460 s.
- Riegel, P., Rinsum, W. v. Drittes Reich und Exil. Bd. 10 // Deutsche Literaturgeschichte. Deutscher Taschenbuch Verlag, München. 2004. - 303 s.