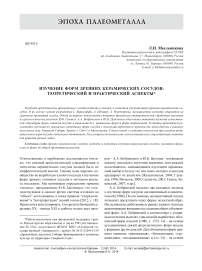Изучение форм древних керамических сосудов: теоретический и практический аспекты
Автор: Мыльникова Л.Н.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.
Бесплатный доступ
В работе представлены применяемые сегодня подходы к анализу и методики изучения форм древних керамических сосудов. В их основе лежат разработки Г. Биркхоффа, А. Шепард, Х. Нордстрёма. Большинство методик опирается на сравнение пропорций сосуда. Одной из широко используемых является программа статистической обработки керамики из археологических раскопок В.Ф. Генинга. А.А. Бобринским и Ю.Б. Цетлиным обоснована методика изучения естественной структуры форм глиняной посуды и выявления т.н. привычных форм и форм-подражаний. В статье приводятся результаты изучения по указанным методикам форм сосудов с поселений переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку Западной Сибири Линево-1, Омь-1 и Мыльникова. Сделан вывод о сходстве комплексов при наличии индивидуальных черт посуды отдельных памятников. Рассмотрена возможность использования всех существующих методик для решения разных задач.
Формы керамических сосудов, подходы и методики изучения керамических сосудов, указатели форм, классы форм по общей пропорциональности
Короткий адрес: https://sciup.org/14523044
IDR: 14523044 | УДК: 903.5
Текст научной статьи Изучение форм древних керамических сосудов: теоретический и практический аспекты
Отечественные и зарубежные исследователи считают, что основой археологической классификации и типологии керамических сосудов должен быть их морфологиче ский анализ. Однако пока мировое сообщество не выработало единого подхода к изучению форм древних глиняных сосудов и методики анализа последних. Мы принимаем определение термина «подход», предложенное Ю.Б. Цетлиным: это «господствующая в данное время система взглядов на “объект” исследования, а также правила “упорядочивания” и “интерпретации” знаний о нем» [2012, с. 18]. Приходится констатировать, что среди публикаций середины XX – начала XXI в. работы только двух авто- ров – А.А. Бобринского и Ю.Б. Цетлина – посвящены анализу подходов к изучению керамики, хотя каждый исследователь, занимающийся изучением керамики, свой выбор в пользу тех или иных методик и методов предваряет их анализом [Жущиховская, 2004; Глушков, 1996; Мочалов, 2008; Салангин, 2001; Ткачев, Хованский, 2007; и др.].
А.А. Бобринский выделил два основных подхода к изучению форм сосудов: ассоциативный и аналитический [1986]. По его мнению, ассоциативный подход позволяет представить через форму целостный образ. Исследователи, работавшие в рамках данного подхода, акцентировали внимание на создании общих обозначений форм. А.А. Бобринский в соответствии с указанным подходом выделял «два способа выработки» обозначений форм изделий [1986, с. 137]: 1-й – на основе ассоциативных связей археологических форм посуды с формами других реалий. Для обозначения форм приняты термины: «реповидная», «бочковидная», «грушевидная», «тюльпановидная» и т.п.; 2-й – на основе
ассоциативных связей между формами современной посуды (этнографической) и археологической.
Аналитический подход, по мнению А.А. Бобринского, предполагает рассмотрение форм как совокупно сти элементарных частей и, соответственно, разработку приемов выделения и изучения этих составляющих. В практике использования данного подхода сформировались термины: «горшок», «банка», «кувшин», «корчага», «миска», «хум», «амфора» и т.п. [Там же].
А.А. Бобринский считал, что методики, разработанные Л. Гмелиным, Е. Грассе, А.Ф. Филипповым, В.А. Городцовым [1901], Г.Д. Биркхоффом [Birkhoff, 1933], А.О. Шепард [Shepard, 1965], Х.А. Нордстрёмом [Nordström, 1972] и др., отражают формальный подход к изучению форм сосудов [Бобринский, 1986, с. 140, 152]. С точки зрения А.А. Бобринского, формы посуды характеризуют особенности их конструкций. Глиняные сосуды являются носителями информации о том, как устроены емкости. В основу изучения сосуда должно быть положено представление «о форме как об овеществленном результате приложения системы особого распределения физических усилий сжатия, расширения и подъема пластического сырья, игравшего роль строительного материала» [1986, с. 144]. Сначала нужно создать «идеальный контур» путем устранения асимметрии сосуда. Затем следует выделить точки наибольшей локальной кривизны (НЛК) и соединить между собой точки НЛК противоположных сторон контура. Набор полученных геометрических фигур, отмечал А.А. Бобринский, соответствует функциональным частям емкости сосуда, естественной структуре формы. Эта структура отражает представление самого гончара, т.к. точки НЛК выделены не умозрительно, а в соответствии с местами приложения мастером физических усилий, необходимых для создания формы [1986, с. 149]. Каждая функциональная часть имеет свое название: губа, щека, шея, плечо, предплечье, тулово, дно [Бобринский, 1988, с. 6]. Из этих семи частей складываются 11 конструкций, к которым сводится практически все разнообразие существующих керамических форм [Там же, с. 7]. С помощью специальных процедур выделяются традиционные формы, «формы-подражания», а также определяются поколенческие особенности гончаров [Бобринский, 1991].
Разработка положений А.А. Бобринского о формах глиняной посуды и их исследовании продолжена Ю.Б. Цетлиным [2005, 2012]. В изучении гончарства в целом, по мнению ученого, как и в развитии знаний о формах посуды, «проявились три общих исследовательских подхода: эмоционально-описательный, формально-классификационный и историко-культурный» [2012, с. 140]. Ю.Б. Цетлин считает, что исследователи, работающие в рамках первого подхода, решают задачу образного описания форм. Отсюда использование в качестве терминов «изящных» слов, которые отражают внешние особенности изделий, а позже – названий современной или этнографической посуды. Этот подход, по мнению исследователя, характерен для работ В.А. Городцова. Но его книга «Русская доисторическая керамика» [1901] положила начало постепенной детализации представлений о форме сосуда как особом объекте изучения, получившей развитие в следующем подходе [Цетлин, 2012, с. 141–142].
Идеи формально-классификационного подхода к изучению форм сосудов впервые были сформулированы искусствоведами Л. Гмелиным, Э. Гроссе, А.В. Филлиповым [Там же, с. 141–143]. Однако ориентированной на исследование археологических объектов и востребованной археологами оказалась методика анализа форм сосудов, предложенная Г.Д. Биркхоффом [Birkhoff, 1933]. Cледующим шагом в поиске оптимальных методов изучения керамической посуды стали разработки А.О. Шепард [Shepard, 1965]. К ученым, придерживающимся формально-классификационного подхода, Ю.Б. Цетлин относит также Х.А. Нордстрёма (метод анализа пропорциональности сосудов) [Nordström, 1972], В.Ф. Генинга (программа статистической обработки археологической керамики) [1973, 1992], И.С. Каменецкого (Гошева) (правила описания сосудов) [Гошев (Каменецкий), 1994] и др.
Ю.Б. Цетлин считает, что «отличительной особенностью… всех способов разбиения форм сосудов на части и способов оценки пропорциональности форм (предложенных вышеназванными авторами. – Л.М. ) является их сугубо формальный характер», в наименьшей степени проявившийся в разработках Г.Д. Бир-кхоффа и А.О. Шепард. «Исследователи не приводят никаких обоснований того, почему применяются именно эти, а не какие-либо иные приемы выделения разделительных точек на контуре, почему используются именно данные, а не иные размерные соотношения для характеристики пропорциональности сосудов» [2012, с. 148–149].
В соответствии с историко-культурным подходом, основы которого заложены А.А. Бобринским [1978], формы глиняной посуды рассматриваются как «овеществленный в конкретных предметах результат труда», отражающий технологические традиции гончаров и традиции потребителей. Поэтому задачами изучения керамики являются: выделение конкретных культурных традиций их изготовления и исследование механизмов поведения этих традиций в различных культурно-исторических ситуациях [Там же, с. 149]. В любом керамическом сосуде нужно выделить естественную структуру (части, из которых он состоит), общую пропорциональность формы (категории высокий, средний или низкий) и назначение. Изготовление сосуда любой формы любым мастером связа- но с определенной системой физических точечных и пространственных усилий по перемещению формовочной массы; в ходе работы у гончара складывается «же сткий стереотип во спроизведения» конкретной формы. Исследователи подчеркивают, что этот стереотип «присутствует не только в голове мастера, но и в его руках» [Бобринский, 1986, 1988; Цетлин, 2012, с. 161]. В ходе экспериментальных исследований, которые проводились в лаборатории «История керамики» ИА РАН, было установлено, насколько был сложен для гончаров процесс создания новых форм. «Ломка привычного стереотипа, – отмечает Ю.Б. Цетлин, – происходит у него очень болезненно, медленно и постепенно» [2012, с. 161]. По результатам экспериментов были разработаны график и номенклатура классов сосудов по общей пропорциональности: к изделиям «привычных» форм отнесены высокие, средние и низкие, а к «формам-подражаниям» – пограничные «высокосредние» и «средне-низкие» [Там же, с. 162].
Опыт использования историко-культурного подхода, предложенного А.А. Бобринским, и «развернутого» Ю.Б. Цетлиным, получил освещение в работах Е.В. Волковой [1996, 1998, 2010], О.Д. Мочалова [2008, 2011], Ю.Б. Цетлина [2008] и др. Но, к сожалению, ни в одной из этих публикаций нет примера применения указанной методики. Отметим, что группой программистов во главе с В.Г. Ломаном на основе методики А.А. Бобринского разработана компьютерная программа «Гончар» [2006; Гончар…].
Большинство исследователей считает необходимым создание системы условных обозначений на основе категорий геометрии. Фактически такой поиск давно ведется как в нашей стране, так и за рубежом. Метод А.О. Шепард, иногда с применением индекса Х. Нордстрёма, активно используют российские археологи [Гребенщиков, Деревянко, 2001; Жущихов-ская, 2004; Русанова, 1973; и др.]. Многие археологи проводят изыскания по программе статистической обработки керамики В.Ф. Генинга [Папин, Шамшин, 2005], хотя она принята не всеми исследователями или используется с определенными поправками [Ткачев, Хованский, 2007, с. 14–15].
Работы по созданию унифицированной методики морфологического анализа сосудов продолжаются. Например, С.Н. Николаенко предложил свой метод изучения керамики, о снованный на использовании геометрических фигур [2004], – «метод геометрической сегментации в морфологическом анализе сосудов» [2005], но, вероятно, будет уточнять и корректировать его [2006]. С.Н. Николаенко вводит новые латинизированные термины, а формы – цилиндр, конус и сфера – делит на две группы по производным, которые лежат в основе дробления сосудов на классы. Наличие или отсутствие изгиба и наклона поверхности он предлагает считать основанием для выделения подклассов. По наличию функциональных компонентов С.Н. Николаенко относит сосуды к определенному роду (A, B, C, D) [Там же, с. 36–37]. Будет ли использоваться данный метод – покажет время; пока исследователи демонстрируют различия в методических предпочтениях и попытки совместить разные подходы к исследованию керамики. Так, сибирские и дальневосточные археологи привлекают разные методики для оценки пропорциональности сосудов, в т.ч. систему А.О. Шепард, программу В.Ф. Генинга.
Для определения возможно стей обсуждаемых методик и выявления их общих и особенных черт были обработаны коллекции памятников переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку лесостепной зоны Западной Сибири. Основой настоящей работы стали опубликованные коллекции поселений Мыльникова (Барнаульское Приобье) [Папин, Шамшин, 2005, прилож. 2, рис. 4, 1 ; 5, 1, 2, 4 ; 6, 1 ; 21, 3, 5, 6 ; 22, 4 ; 23, 3, 4 ; 24, 1,3, 4 ; 25, 3; 34, 1–4 ; 38, 1–8 ; 39, 3–6 ; 41, 2, 3 ; 43, 2 ; 44, 1, 3–5 ; 54, 1–5; 55, 2 ; 63, 5, 7, 15, 18, 19 ; 64, 50, 51 ], Омь-1 (Барабинская лесостепь) [Мыльникова, Чемякина, 2002, рис. 19, 1, 5 ; 20, 1, 4; 27, 1, 6, 7; 28, 1–3, 6–7 ; 29, 1–4, 6 ; 30, 1, 4 ], Линево-1 (Новосибирское Приобье, предгорная зона) [Зах, 1997, рис. 27, 2, 3, 5, 10, 12 ; 30, 4, 12, 21, 22, 28 ; 31, 1, 6, 15, 27–31 ; 32, 5, 22, 27, 33–35 ; 33, 5, 26 ; 34, 1, 3, 6, 16 ] и неопубликованные материалы с. Линево-1, раскопы 2003–2005 гг. (рис. 1). В изданиях приведена также классификация керамических коллекций, что позволило проводить их сравнение.
Каждый сосуд, обнаруженный на памятнике, получил индивидуальный номер. Под этим номером в статистических таблицах можно найти всю информацию о сосуде (табл. 1–3). Среди перечисленных памятников поселение Мыльникова выделяется тем, что среди 50 изученных целых сосудов 44 % составляют круглодонные,

Рис. 1. Памятники Линево-1, Омь-1 и Мыльникова.
Таблица 1. Параметры сосудов поселения Линево-1, см
|
№ сосуда |
Шифр, источник |
Дв |
Дг |
Дт |
Дд |
Н |
Нг |
Нпл |
Нпр |
|
86 |
Ли-1, кв. Э/50, об.7 |
10,2 |
9,8 |
21,8 |
10,4 |
17,5 |
2,4 |
6,9 |
8,7 |
|
87 |
Ли-1, кв. Ж’/48, гор. 3,об. 9 |
7,7 |
7,4 |
11,4 |
4,5 |
9,1 |
1,5 |
3,1 |
4,5 |
|
88 |
Ли-1, кв. Х/73 |
22,4 |
21,6 |
24,9 |
– |
14,8 |
2,2 |
5,3 |
7,3 |
|
89 |
Ли-1, кв. Ы/37, жил. 15, зап. |
14,3 |
13,7 |
17,4 |
7,5 |
12,5 |
1,4 |
4,5 |
6,6 |
|
90 |
Ли-1, кв. Щ/37, жил. 15, зап. |
10,0 |
11,2 |
12,0 |
7,4 |
10,6 |
3,1 |
1,4 |
6,1 |
|
91 |
Ли-1, кв. У/31, сл. 2, об. 17 |
12,0 |
12,0 |
13,6 |
10,3 |
8,7 |
2,6 |
2,4 |
3,7 |
|
92 |
Ли-1, кв. Р/25, жил. 16, пол, об. 18, Ю/31, зольн. |
10,6 |
11,3 |
13,7 |
– |
8,9 |
2,2 |
2,7 |
4,0 |
|
93 |
Ли-1, кв. Х/6, жил. 17, зап. гор. 1 |
10,8 |
10,8 |
12,8 |
– |
7,5 |
1,2 |
2,0 |
4,3 |
|
94 |
Ли-1, кв. У/11, жил. 17, яма 1, очаг 2 |
17,4 |
17,2 |
21,4 |
11,2 |
21,6 |
5,6 |
5,2 |
11,2 |
|
95 |
Ли-1, об. 26 |
8,1 |
8,0 |
10,3 |
– |
7,6 |
1,7 |
2,1 |
3,8 |
|
96 |
Ли-1, кв. Ч/17, пол, об. 21 |
11,2 |
11,2 |
13,3 |
– |
8,5 |
1,7 |
2,5 |
4,3 |
|
97 |
Ли-1, жил. 17, об. 12, 14 |
18,0 |
18,0 |
20,3 |
12,0 |
18,2 |
4,6 |
4,6 |
9,0 |
|
98 |
Ли-1, кв. Э/19, сл. 2, гор. 1 |
9,1 |
8,7 |
16,5 |
5,0 |
13,5 |
2,4 |
5,0 |
6,1 |
|
99 |
Ли-1, кв. Г’/6, сл. 2, гор. 3 |
9,5 |
9,5 |
9,9 |
– |
5,6 |
7,0 |
1,0 |
3,9 |
|
100 |
Ли-1, кв. Ы/46, жил. 15, зап. гор. 3 |
17,7 |
17,2 |
19,4 |
– |
12,1 |
2,3 |
3,6 |
6,2 |
|
101 |
Ли-1, кв. Ц/39, гор. 2 |
15,3 |
15,1 |
17,5 |
– |
11,4 |
3,0 |
3,3 |
5,1 |
|
102 |
Ли-1, кв. Щ/38, Ы/38, жил. 15, зап., пол |
24,1 |
23,0 |
35,6 |
15,8 |
28,6 |
3,8 |
8,5 |
16,3 |
|
103 |
Ли-1, кв. С/48, жил. 15, зап. гор. 4 |
9,2 |
9,0 |
9,7 |
5,1 |
6,8 |
1,2 |
1,6 |
4,0 |
|
104 |
Ли-1, кв. Я/46, жил. 15, зап. гор. 3 |
14,0 |
13,8 |
15,6 |
– |
1,1 |
1,0 |
4,4 |
5,6 |
|
105 |
Ли-1, кв. Ы/27, зольн., об. 16 |
9,7 |
9,5 |
12,0 |
8,1 |
6,5 |
0,6 |
2,7 |
3,2 |
|
106 |
Ли-1, кв. В’/68, гор. 4, об. 8 |
15,9 |
15,7 |
20,4 |
9,0 |
16,3 |
2,1 |
5,2 |
9,0 |
|
107 |
Ли-1, кв. Г’/69, гор. 2 |
11,8 |
11,3 |
16,1 |
7,2 |
12,3 |
2,0 |
4,1 |
6,2 |
|
108 |
Ли-1, кв. Г’/66, сл. 2, гор. 3, об. 6 |
– |
7,8 |
9,2 |
4,6 |
– |
– |
2,6 |
2,8 |
|
109 |
Ли-1, кв. Д’/64, сл. 2, гор. 3, об. 7 |
– |
6,0 |
10,7 |
3,2 |
– |
– |
3,0 |
4,0 |
|
110 |
Ли-1, кв. В’/66, гор. 4, об. 9 |
9,6 |
9,2 |
11,9 |
5,6 |
10,7 |
1,1 |
2,5 |
7,1 |
|
111 |
Ли-1, кв. Р’/37, сл. 2, гор. 2 |
9,5 |
9,5 |
10,5 |
– |
8,8 |
1,8 |
2,3 |
4,7 |
|
112 |
Ли-1, кв. З’/34, сл. 2, гор. 3, об. 3 |
12,6 |
11,9 |
14,4 |
6,5 |
11,2 |
2,2 |
2,3 |
6,6 |
|
113 |
Ли-1, кв. З’/36, гор. 3, об. 3 |
14,6 |
14,0 |
18,1 |
7,8 |
16,8 |
2,6 |
4,6 |
9,6 |
|
114 |
Ли-1, кв. О’/44, гор. 5 |
13,0 |
12,6 |
33,2 |
13,0 |
24,7 |
4,4 |
9,2 |
11,1 |
|
115 |
Ли-1, кв. Р’/32, бр, гор. 4 |
14,3 |
14,8 |
17,7 |
10,0 |
17,0 |
2,7 |
4,3 |
10,0 |
|
116 |
Зах, 1997 с. 68, табл. 27, 10 |
19,8 |
19,8 |
23,8 |
– |
18,2 |
2,9 |
4,5 |
10,8 |
|
117 |
Там же, табл. 27, 6 |
– |
– |
18,2 |
10,1 |
– |
– |
– |
8,8 |
|
118 |
Там же, табл. 27, 5 |
21,6 |
20,8 |
26,5 |
12,4 |
21,5 |
4,3 |
5,9 |
11,3 |
|
119 |
Там же, табл. 27, 10 |
25,8 |
25,3 |
31,6 |
– |
22,0 |
2,2 |
7,8 |
12,0 |
|
120 |
Там же, табл. 27, 1 |
32,8 |
32,0 |
41,6 |
17,0 |
26,3 |
2,9 |
10,9 |
12,5 |
|
121 |
Там же, табл. 27, 12 |
25,8 |
26,3 |
31,3 |
– |
17,5 |
1,1 |
6,1 |
10,3 |
|
122 |
Там же, с. 90, табл. 34, 16 |
15,3 |
15,3 |
16,6 |
8,3 |
14,7 |
3,2 |
3,6 |
7,9 |
|
123 |
Там же, с. 89, табл. 33, 5 |
13,0 |
13,5 |
14,2 |
6,3 |
10,1 |
2,3 |
1,4 |
6,4 |
|
124 |
Там же, с. 90, табл. 34, 3 |
10,2 |
10,1 |
10,8 |
– |
6,3 |
0,8 |
1,9 |
3,6 |
|
125 |
Там же, табл. 34, 6 |
12,2 |
12,2 |
12,8 |
– |
7,8 |
0,5 |
2,0 |
5,3 |
|
126 |
Там же, табл. 34, 1 |
30,9 |
30,3 |
33,3 |
16,2 |
29,9 |
6,0 |
5,3 |
18,6 |
|
127 |
Там же, с. 89, табл. 33, 26 |
38,1 |
38,4 |
40,0 |
18,0 |
32,8 |
7,1 |
6,8 |
18,9 |