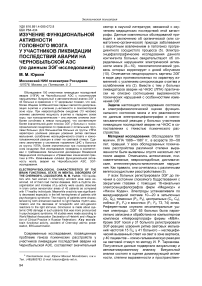Изучение функциональной активности головного мозга у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (по данным ЭЭГ-исследований)
Автор: Юркин Михаил Михайлович
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Экологическая психиатрия
Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.
Бесплатный доступ
Обследовали 150 участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС с психическими нарушениями. Визуальный и автоматический анализ ЭЭГ у 43 больных в сравнении с 17 здоровыми показал, что наиболее общими особенностями первых являются дезорганизация а-ритма и усиление р1-активности в сенсомоторной зоне коры. При неврозоподобном синдроме (13 человек) значимо увеличена мощность а-ритма в передних зонах коры, при психоорганическом - она значимо снижена (наиболее устойчиво в левом полушарии), что соответствует более значительной доле плоских ЭЭГ у больных с психоорганическим синдромом по сравнению с остальными группами больных. Для большинства больных из группы УЛПА характерно усиление реакции усвоения ритма световых мельканий, ослабление неспецифического ответа и кожно-гальванической реакции в ответ на световой стимул. Сделано заключение о системном поражении ЦНС у больных из группы УЛПА, более значительном при психоорганическом синдроме. Все исследования проведены в соответствии с требованиями Хельсинской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации и «Правилами клинической практики в РФ».
Функциональная активность мозга, авария на чернобыльской аэс, ээг-исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/14295395
IDR: 14295395 | УДК: 616.891.4-085-072.8
Текст научной статьи Изучение функциональной активности головного мозга у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (по данным ЭЭГ-исследований)
Обследовали 150 участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС с психическими нарушениями. Визуальный и автоматический анализ ЭЭГ у 43 больных в сравнении с 17 здоровыми показал, что наиболее общими особенностями первых являются дезорганизация а-ритма и усиление р 1 -активности в сенсомоторной зоне коры. При неврозоподобном синдроме (13 человек) значимо увеличена мощность а-ритма в передних зонах коры, при психоорганическом – она значимо снижена (наиболее устойчиво в левом полушарии), что соответствует более значительной доле плоских ЭЭГ у больных с психоорганическим синдромом по сравнению с остальными группами больных. Для большинства больных из группы УЛПА характерно усиление реакции усвоения ритма световых мельканий, ослабление неспецифического ответа и кожногальванической реакции в ответ на световой стимул. Сделано заключение о системном поражении ЦНС у больных из группы УЛПА, более значительном при психоорганическом синдроме. Все исследования проведены в соответствии с требованиями Хельсинской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации и «Правилами клинической практики в РФ». Ключевые слова : функциональная активность мозга, авария на Чернобыльской АЭС, ЭЭГ-исследования.
ELECTROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BRAIN FUNCTIONAL STATE IN MENTAL DISORDERS OF THE CHERNOBYL LIQUIDATORS. M. M. Yurkin . 150 liquidators who had worked in Chernobyl accident area were examined. All of them had mental diseases. Both a-rhythms disorganisation and increase of p 1 -activity were usually observed in brain cortex sensomotor areas of 43 patients as compared with 17 healthy individuals. Meanwhile a-activity was significantly decreased especially in the left hemispheres of patients with psychoorganic syndrome. The majority of patients were characterized by both enhanced reaction to light flashes rhythm assimilation and the decrease of nonspecific and skin-galvanic reactions to the light stimulus. Conclusion is made about systemic CNS damage in such patients that was more pronounced In psychoorganic syndrome. All studies were made according to World Medical Association Declaration of Helsinki and «Regula-tion of Clinical Practice in Russian Federation». Key words : brain functional activity, accident of Chernobyl atomic power station, EEG-examination.
Современные исследования, посвященные проблеме генеза психических расстройств у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, составляют значительный сектор в научной литературе, связанной с изучением медицинских последствий этой катастрофы. Данные комплексных обследований приводят к заключению об органической (или соматогенно-органической) природе заболевания с вероятным вовлечением в патогенез прогредиентного сосудистого процесса (5). Электроэнцефалографические исследования данного контингента больных свидетельствуют об определенных нарушениях электрической активности мозга (8—10), психопатологический уровень которых коррелирует с дозой облучения (10). Отмечается неоднородность картины ЭЭГ в виде двух противоположных по характеру изменений: с усилением синхронизации α-ритма и ослаблением его (2). Вместе с тем у больных ликвидаторов аварии на ЧАЭС (ЛПА) практически не описано соотношение выраженности психических нарушений с особенностями изменений ЭЭГ.
Задача настоящего исследования состояла в электрофизиологической оценке функционального состояния мозга и его реактивности по данным электроэнцефалографии и кожногальванической реакции у больных участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в сопоставлении с тяжестью психического расстройства.
Материал исследования . Обследовали 150 мужчин, ЛПА 1986—1987 гг., в возрасте 30—58 лет, правшей. У всех обследованных психические расстройства различной степени выраженности были выявлены спустя несколько лет после аварии. Отмечались астенические, психовегетативные, неврозоподобные, дистимические, интеллектуально-мнестические нарушения. Как правило, они сочетались с различными вегетососудистыми расстройствами (5).
У всех больных регистрировали ЭЭГ до лечения в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами с помощью 16-канальных электроэнцефалографов фирм «Медикор» и «Нихон Коден». Электроды устанавливали по международной системе 10—20 в затылочных (Q1, Q2), теменных (Р3, Р4), центральных (СЗ, С4), лобных (F3, F4) и височных (F7, F8, 73, 74) зонах. Референтными служили ипсилатеральные ушные электроды. ЭЭГ 65 больных была параллельно записана и обработана на компьютерном комплексе «Нейрокартограф» фирмы «МБН». Кроме ЭЭГ покоя у 31 больного регистрировали ЭЭГ-реакцию усвоения ритма световых мельканий частотой 15 Гц, у 41 больного – неспецифический вызванный ответ на свет в зоне вертекса, у 40 пациентов – кожно-гальваническую реакцию на световой стимул по методу И. Р. Тарханова. Полученные данные подвергали визуальному и автоматизированному анализу. Визуальный анализ состоял в оценке доминирующей активности, степени выраженности и пространствен- ного распределения основных ритмов, их амплитудно-частотной характеристики с последующей классификацией типов ЭЭГ. Визуально оценивали особенности реактивности. Автоматизированный анализ ЭЭГ включал вычисление и построение спектров мощности основных ритмов ЭЭГ каждого отведения, вычисленных с помощью Фурье-анализа для 10 4-секундных эпох ЭЭГ у каждого испытуемого с последующим построением карт пространственного распределения спектральной плотности ритмов для основных диапазонов по поверхности скальпа.
При клинико-электроэнцефалографическом сопоставлении двух групп больных – с неврозоподобным и психоорганическим синдромами (13 и 30 человек соответственно) – карты усредняли и статистически сравнивали по t-критерию с помощью программы «Топографическая картотека». В качестве контрольных при такой обработке использовали аналогичным образом полученные данные 17 здоровых испытуемых (13 мужчин и 4 женщины в возрасте от 19 до 45 лет). Пароксизмальная активность, отмеченная в ряде случаев, анализировалась по методике В. В. Гнездицкого и др. (1) с помощью программы «Brainloc».
Все исследования проведены в соответствии с требованиями Хельсинской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации и «Правилами клинической практики в РФ».
Визуальный анализ ЭЭГ. Картина ЭЭГ исследованных больных не была однородной. На основании визуального анализа мы выделили следующие наиболее часто встречающиеся варианты ЭЭГ: тип А – с доминированием регулярного а-ритма с правильным распределением по зонам или сглаженными зональными различиями и склонностью к гиперсинхронизации. Этот тип ЭЭГ наблюдался у 36 % больных. Тип Б – с усилением рактивности частотой 13— 20 в 1 с, диффузным или более выраженным в лобно-центральных и теменных зонах. Этот тип ЭЭГ встречался наиболее часто – у 52 % больных. Усиление реактивности обычно наблюдалось в составе полиритмии (в 40 %) и реже – на фоне доминирования а-ритма (12 %). Тип П составили так называемые плоские ЭЭГ со сниженным уровнем электрической активности (амплитуда не более 30 мкВ) без α-ритма или с низким α-индексом. Этот тип ЭЭГ встретился у 9 % больных. Тип М , характеризующийся заметным усилением или доминированием 0- и А-активности, встречался редко – менее чем у 3 % больных.
У 33 % больных на ЭЭГ отмечались пароксизмальные формы активности – чаще билатеральные вспышки заостренных а-, θ- и β-волн, редко (у 3 больных) медленноволновые пароксизмы. Пароксизмальные знаки были пред- ставлены на ЭЭГ всех типов, кроме плоских.
Анализ частоты выявления выделенных типов ЭЭГ и пароксизмальных феноменов в разных клинических группах больных был проведен при обследовании 111 человек. В нашей выборке наиболее часто встречались больные с психоорганическим (66,6 %) и неврозоподобным (20 %) синдромами и редко – с другими. Хотя значимых корреляций между диагнозом и типом ЭЭГ обнаружить не удалось, можно отметить, что у всех 4 больных с депрессивным синдромом отмечался тип Б ЭЭГ. Большинство больных с наиболее измененными ЭЭГ (10 из 111 с типом П и все больные с типом М) имели диагноз «психоорганический синдром». Медленноволновые пароксизмы встречались только у больных с психоорганическим синдромом.
Для больных с неврозоподобным синдромом были характерны более легкие изменения ЭЭГ. В этой группе чаще, чем в других, встречался тип А ЭЭГ (50 % больных) и наиболее часто отмечались вспышки а-, θ- и β-волн, т. е. изменения эпилептиформного характера (36 % случаев), но отсутствовали медленноволновые пароксизмы.
Для сравнения ЭЭГ участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и ЭЭГ здоровых людей и больных с дисциркуляторной энцефалопатией I—III стадии мы обратились к данным литературы (3, 4, 12).
Наши и литературные данные приведены в соответствие с последней редакцией экспертной классификации типов ЭЭГ Е. А. Жирмунской (4). У больных участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС наиболее часто (в 54 %) встречается IV тип ЭЭГ, по Е. А. Жирмунской, т. е. дезорганизованный с сохранной α-активностью. Это достоверно (р<0,05) отличает их от группы здоровых людей, у которых тип IV отмечен в 32 % случаев. Значимо реже, чем в норме (р<0,05), у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС встречается I тип ЭЭГ, моноритмичный, с хорошо организованным α-ритмом (1 7 и 42 % соответственно). Тип III (плоский) у этих больных отмечается не чаще, чем у здоровых. Соотношение I и IV типов ЭЭГ у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС сходно с таковым у больных со II стадией дисциркуляторной энцефалопатии.
Этот анализ статистически подтвердил данные визуального анализа, а также выявил более тонкие значимые отличия ЭЭГ двух наиболее многочисленных клинических групп больных от ЭЭГ здоровых испытуемых. Подтверждены выводы визуального анализа об усилении β-активности у большинства больных участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В группе больных отчетливо видно усиление плотности β-ритма в центрально-теменной зоне (2,225 мкВ2/Гц) по сравнению со здоровыми
(1,800 мкВ2/Гц) (различия статистически достоверны для левой теменной зоны; р<0,05).
Наиболее выраженные различия больных выявились при анализе α-ритма. Хотя по средней его частоте группы больных с психоорганическим (30 человек) и неврозоподобным (13 человек) синдромами не отличались от группы здоровых (соответственно 10,1±0,24, 9,9±0,22 и 9,9±0,17 Гц), распределение α-ритма и его спектральная плотность в этих группах были разными. Для больных с неврозоподобным синдромом характерно значимое увеличение плотности α-ритма в центрально-лобной зоне коры по сравнению со здоровыми. Такое усиление связано с часто отмечаемой у больных сглаженностью зональных различий по α-ритму, что указывает на усиление синхронизирующих влияний на кору со стороны диэнцефальных структур мозга.
У больных с психоорганическим синдромом, напротив, спектральная плотность α-ритма была резко снижена по сравнению со здоровыми почти во всех зонах коры. Это соответствует отмеченному у них при визуальном анализе увеличению доли «плоских» ЭЭГ. Столь же сильно эта группа отличается от группы больных с неврозоподобным синдромом. Проведенные статистические сравнения отмечают, что достоверное снижение спектральной плотности α-ритма при психоорганическом синдроме (р<0,001) имеет место лишь в левом полушарии. В правой центрально-теменно-височной зоне снижение плотности α-ритма статистически незначимо. По средней спектральной плотности ∆- и θ-ритмов группы больных не отличались от группы здоровых. Отмечена тенденция к снижению спектральной плотности ∆-волн у больных с психоорганическим синдромом.
Таким образом, по данным автоматического, как и по данным визуального анализа, наибольшие отличия от здоровых имеются на ЭЭГ больных с психоорганическим синдромом. Они состоят в снижении уровня электрической активности (преимущественно в α-диапазоне), наиболее устойчивом в левом полушарии. Для больных с невротическим синдромом более характерна экзальтация основного ритма в передних зонах коры. Применение программы «Brainloc» для определения эквивалентного дипольного источника вспышек или пароксизмов у 10 больных продемонстрировало довольно широкий разброс возможных локализаций в пределах глубоких структур мозга. Определенной закономерности в локализации источников разрядов в зависимости от их типа, характера фоновой ЭЭГ или клинического диагноза не обнаружено.
Особенности реактивности. В качестве индикаторов функционального состояния коры больших полушарий, диэнцефальных неспеци- фических структур мозга и состояния вегетативной регуляции были выбраны соответственно следующие реакции: реакция усвоения ритма световых мельканий, неспецифический вызванный ответ на свет и кожно-гальваническая реакция.
Визуальный анализ реакций на ритмическую фотостимуляцию частотой 15 Гц у 31 больного показал, что у большинства из них (87 %) имела место выраженная перестройка ритма ЭЭГ. Среди здоровых такая реакция встречается значительно реже – примерно у 1/3 испытуемых. Полученные данные в соответствии с современными представлениями можно рассматривать как указание на повышенную ирритацию коры больших полушарий у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Неспецифический ответ на световой стимул в области вертекса исследован у 41 больного. У большинства из них (71 %) он отсутствовал или был ослаблен, а у части (22 %) – усилен. Корреляции между типом ответа и клиническим диагнозом не обнаружено. Согласно современным представлениям, неспецифический ответ связан с активностью неспецифических систем мозга, контролирующих спонтанную активность коры. Он рассматривается как коррелят ориентировочной реакции и внимания. Полученные нами данные указывают на снижение функционального состояния упомянутой системы мозга. Кожно-гальваническая реакция на световой стимул исследована у 40 человек. У большинства из них (60 %) отмечено ее усиление, причем эта тенденция обнаружена во всех клинических группах больных. У половины больных кожно-гальваническая реакция была асимметричной, чаще всего усиленной справа. Асимметричные реакции встречались преимущественно у больных более легких клинических групп, т. е. при астеническом, психовегетативном, неврозоподобном и депрессивном синдромах. Симметричные кожно-гальванические реакции отличали преимущественно психоорганический синдром. Полученные результаты выявляют существенные отличия ЭЭГ участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС от ЭЭГ здоровых. Наиболее общими являются дезорганизация основного ритма и усиление р-активности в центрально-теменной зоне коры. Изменения на ЭЭГ, наблюдаемые у больных (усиление β-ритма, острых волн, преобладание ЭЭГ дезорганизованного типа с сохранным α-ритмом), сходны с изменениями при дисциркуляторной энцефалопатии. На вероятную сосудистую природу заболевания указывают и литературные данные (5, 13).
По Е. А. Жирмунской (4), дезорганизованный тип ЭЭГ связан с микроструктурными изменениями на уровне коры больших полушарий и дисбалансом деятельности структур лимбико- ретикулярного комплекса. Это согласуется с данными литературы о диффузных гипометаболиче-ских очагах в коре и глубоких структурах мозга, выявленных методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (5).
Согласно литературным данным, усиление β-волн на ЭЭГ может быть связано с активностью различных структур мозга, в том числе гипоталамуса и хвостатого ядра или является признаком ирритации коры. Учитывая наши данные об усилении лабильности коры в реакции перестройки ритма, можно предположить, что отчасти наблюдаемая β-активность, наиболее усиленная в теменно-центральной зоне, зоне представительства соматической чувствительности, отражает ее ирритацию, что, вероятно, имеет отношение к таким клиническим проявлениям, как мышечные, костные и суставные боли, часто отмечаемые у больных.
Наши данные отчасти согласуются с литературными (8, 9) о тенденции к дезорганизации ЭЭГ и усилению β-ритма у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, но не подтверждают повышения медленной активности (2, 9). Расхождение результатов, вероятно, связано с различиями в контингенте обследованных и выборочным характером исследования. Сопоставление характера ЭЭГ с регистром клинического синдрома позволяет обнаружить положительную корреляцию. Клинически более тяжелым нарушениям соответствуют более выраженные изменения ЭЭГ. Для начальных болезненных проявлений более характерно усиление синхронизации α-ритма с его распространением на передние отделы коры, а также усиление пароксизмальных вспышек α-, θ-, β-волн, что свидетельствует о раздражении диэнцефальных неспецифических структур мозга. Для последующих – снижение уровня электрической активности, что указывает на ослабление синхронизирующих влияний со стороны неспецифических диэнцефальных структур. Различие больных с неврозоподобным и психоорганическим синдромами выявляется и на уровне вегетативной регуляции. Хотя у большинства больных обеих групп отмечается усиление вегетативной реактивности, у первых преобладают асимметричные, преимущественно правосторонние, реакции, а у последних – симметричные.
Учитывая данные литературы (7) о вероятном контралатеральном характере взаимосвязи активации полушария с изменением кожногальванического сопротивления, можно предполагать снижение активации левого полушария у больных с психоорганическим синдромом по сравнению с больными других клинических групп и здоровыми. Интересно, что наиболее устойчивое снижение α-ритма у больных с пси- хоорганическим синдромом отмечено в левом полушарии, о повышенной заинтересованности которого у «ликвидаторов» упоминают и другие авторы (2, 10). Можно предположить, что легкие ирритативные изменения ЭЭГ при неврозоподобном синдроме – это начальные проявления болезни. Уплощение ЭЭГ характерно главным образом для больных с психоорганическим синдромом. В целом по группе ЛПА «плоские» ЭЭГ встречаются не чаще, чем у здоровых людей. Следует отметить, что разные типы реактивности обнаруживают существенные нарушения межцентральных отношений в работе мозга. С одной стороны, у ЛПА повышена корковая возбудимость, с другой – снижены активирующие неспецифические (диэнцефальные) влияния на кору; также отмечаются большие нарушения в левом полушарии. Полученные данные говорят о том, что у ЛПА формируется системное поражение центральной нервной системы, которое на разных этапах проявляется разной степенью выраженности.