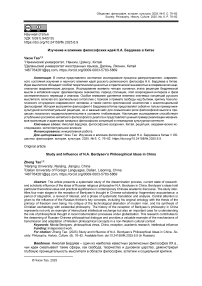Изучение и влияние философских идей Н.А. Бердяева в Китае
Автор: Чжэн Тао
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлено системное исследование процесса распространения, современного состояния изучения и научного влияния идей русского религиозного философа Н.А. Бердяева в Китае. Идеи мыслителя обладают особой теоретической ценностью и практической значимостью в современном национальном академическом дискурсе. Исследование выявило четыре основных этапа рецепции бердяевской мысли в китайской науке: фрагментарное знакомство, период стагнации, этап возрождения интереса и фаза систематического перевода и анализа. Особое внимание уделяется влиянию ключевых концепций русского мыслителя, включая его оригинальную онтологию с тезисом о примате свободы над бытием, критику технологического отчуждения современного человека, а также синтез христианской эсхатологии с экзистенциальной философией. История восприятия философии Н. Бердяева в Китае представляет собой не только пример межкультурной интеллектуальной рецепции, но и важный кейс для осмысления роли философской мысли в процессах локального модерностроительства в условиях глобализации. Настоящее исследование способствует углублению российскокитайского философского диалога и представляет ценный пример реализации механизмов трансляции и адаптации западных философских концепций в незападном культурном контексте.
Николай Бердяев, философские воззрения, Китай, рецепция, академические исследования, интеллектуальное влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/149148195
IDR: 149148195 | УДК: 1(091):94(510) | DOI: 10.24158/fik.2025.6.9
Текст научной статьи Изучение и влияние философских идей Н.А. Бердяева в Китае
В современном китайском академическом контексте изучение процесса распространения идей Н. Бердяева обладает многогранной актуальностью. С одной стороны, данное исследование представляет собой характерный кейс межкультурного философского диалога, раскрывающий механизмы рецепции и трансформации русской религиозной философии в незападном интеллектуальном пространстве. С другой – представленная Н. Бердяевым глубокая критика проблемы человеческой свободы и технологического отчуждения составляет ценный концептуальный ресурс для китайских исследователей, осмысляющих проблемы модерности, что приобретает особую значимость в условиях доминирования технологического рационализма и потребительской культуры.
Начиная с 1980-х гг., по мере углубления изучения русской философии в Китае, произведения Н. Бердяева постепенно переводились на китайский язык, вызывая оживленные дискуссии в научном сообществе. Анализ диалога между ключевыми концепциями философии Н. Бердяева и китайской культурной традицией позволяет не только углубить понимание его философской системы, но и способствует рефлексии о проблемах культурной идентичности и строительства мо-дерности в китайском контексте.
В условиях усиления глобализации идеи Н. Бердяева предлагают новые перспективы для осмысления взаимоотношений между индивидом и обществом, традицией и современностью, что заслуживает тщательного исследования.
Настоящее исследование ставит своей целью системно изучить историю переводов и публикаций произведений Н.А. Бердяева в Китае, применяя методы анализа литературы и прослеживания истории концептов, чтобы выявить эволюцию приоритетов в переводческой деятельности в различные периоды. Одновременно, применяя межкультурную герменевтическую перспективу, мы проводим глубинный анализ процессов семантического смещения и реконструкции таких ключевых концептов, как «духовная свобода» и «этика творчества» в китайском лингвокультурном контексте. Исследуя творческий диалог между центральными идеями Н. Бердяева и китайской интеллектуальной традицией, мы не только углубляем понимание его философской системы, но и открываем новые горизонты для рефлексии о строительстве культурной субъектности и критике модерности в Китае.
В данной статье на материале практики переводов и предпринимаемых исследований произведений Н. Бердяева в Китае прослеживается эволюция восприятия его философских идей академическим сообществом Поднебесной, анализируется их роль в осмыслении китайскими учеными вопросов национального самосознания, культурного разнообразия и моделей модернизации.
История переводов и изучения философских идей Н. Бердяева в Китае . Как выдающийся представитель русской религиозной философии XX в. Н. Бердяев стал известен в Китае в 1930-х гг. Еще в 1936 и 1937 гг. две его работы – «Христианство и классовая борьба» (« 基督教和阶 级战争 ») и «Новое Средневековье» (в то время книга «Новое Средневековье» (« 新的中世纪 ») была переведена как «Конец эпохи» (« 时代的末期 »)) – были включены в «Молодежную серию»1 книг под редакцией У Яоцзуна, переведены и опубликованы Шанхайским издательством Ассоциации молодых христиан2. В этих переводах кратко излагались его религиозно-философские взгляды, приводились размышления о связи христианства и социализма. Хотя эти два произведения не вызвали широкого обсуждения в китайском обществе, они ознаменовали начало проявления интереса ученых Поднебесной к русской религиозной философии, которая стала распространяться от традиционного изучения Л. Толстого и Ф. Достоевского к мыслителям Серебряного века.
Однако в условиях военных потрясений и идеологической нестабильности того периода идеи Н. Бердяева не получили продолжения в национальных исследованиях. После смерти философа в 1948 г. социолог Цинхуаского университета Пан Гуандань опубликовал в газете «Хуабэй жибао» статью «Памяти профессора Бердяева»3, в которой представил систематический обзор его жизни и основных трудов, включая «Философию свободы» и «Истоки и смысл русского коммунизма». Несмотря на научную ценность, в политической атмосфере того периода воззрения Н. Бердяева рассматривались как «буржуазная философия» и не стали предметом глубокого изучения.
В первые годы после образования Китайской Народной Республики (КНР) под влиянием советской идеологии национальные исследователи сосредоточились преимущественно на изучении марксистской философской системы. Религиозные философы, такие как Н. Бердяев, были отнесены к категории «идеалистов» и оказались на периферии академического интереса. В период «культурной революции» академические исследования практически прекратились, а переводы русской и советской философии ограничивались лишь официально одобренными «прогрессивными авторами». Работы Н. Бердяева надолго исчезли из поля зрения китайских ученых.
Лишь в конце 1970-х гг., с началом движения за идеологическое раскрепощение, китайские исследователи вновь обратились к забытым страницам русской философии. Однако в тот период изучение творчества Н. Бердяева по-прежнему оставалось под влиянием политического контекста: его идеи упоминались исследователями лишь вскользь, без глубокого и системного анализа.
1980-е гг. ознаменовали поворотный момент в развитии философской мысли Китая. В 1988 г. Лю Сяофэн в своем труде «Спасение и свободное странствие – различие в мировосприятии китайских и западных поэтов» (Лю Сяофэн, 1988) задался принципиальным вопросом: почему китайское академическое сообщество практически игнорирует творчество столь выдающегося мыслителя, как Н. Бердяев? Эта постановка проблемы вызвала оживленную дискуссию в научных кругах. В 1990 г. в работе «Дискурс изгнания и идеология» Лю Сяофэн представил глубокое исследование духовных связей Н. Бердяева с интеллектуальной элитой Серебряного века, подчеркивая значение его идей для осмысления трансформационных процессов в русской культуре (Лю Сяофэн, 2007).
Знаковым событием стал 1991 г., когда в журнале «Христианский культурный обзор» под редакцией Лю Сяофэна увидел свет сокращенный перевод трактата «О рабстве и свободе человека» – первое послереформенное издание Бердяева в Китае (Бердяев, 1999).
В 1994 г. в монографии «К истине на кресте» Лю Сяофэн обращается к бердяевской критике утопизма, отмечая ее эвристическую ценность для анализа проблем китайской модернизации (Лю Сяофэн, 2011).
Подобные инициативы способствовали резкому росту интереса к наследию русского философа во второй половине 1990-х гг. С этого периода начинается планомерная работа по переводу его фундаментальных трудов, включая «О рабстве и свободе человека» и «Русская идея».
В XXI в. изучение наследия Н. Бердяева в Китае приобрело системный характер. Ученые страны осуществляют последовательный перевод и комплексный анализ его трудов, что обеспечило значительное влияние идей философа на интеллектуальный климат страны. На сегодняшний день Н. Бердяев занимает первое место среди российских философов по количеству переводов на китайский язык. Популяризация таких его ключевых работ, как «О назначении человека», «Смысл истории», «Самопознание», «Опыт эсхатологической метафизики» и «Философия свободного духа», сделала его одним из наиболее репрезентированных в китайском академическом пространстве представителей русской религиозной философии.
Современные китайские исследования касаются биографии и эволюции воззрений Бердяева, его философские и этические концепции. Особого внимания заслуживает монография профессора Чжана Байчуня «Дух дышит, где хочет: исследование религиозной философии Бердяева» – первый в КНР фундаментальный труд, посвященный русскому мыслителю (Чжан Байчунь, 2011). Вводя новаторскую интерпретационную модель «эсхатологической феноменологии», его автор раскрывает прогностический потенциал бердяевской критики технологического отчуждения, предложив триадическую исследовательскую парадигму «свобода – творчество – эсхатология».
В статье «Бердяев: “судьба” и “идея” России» Лю Вэньфэй акцентирует внимание на том, что квинтэссенция философской системы Н. Бердяева наиболее полно выражена в двух его главных трудах – «Судьба России» и «Русская идея». Исследователь сосредотачивается на анализе бердяевской концепции антиномичного русского национального характера, вскрывая его культурноисторические детерминанты и указывая на особую цивилизационную миссию России в контексте диалога Востока и Запада (Лю Вэньфэй, 2021).
Китайская академическая традиция демонстрирует методологический плюрализм в подходе к наследию Н. Бердяева. Помимо религиозно-философского аспекта, значительное внимание уделяется его вкладу в литературную критику. Как справедливо отмечает Чжан Бин в монографии «Элегия Серебряного века», «Бердяев-литератор проявил себя не в художественном творчестве, а в литературной теории и критике, основанных на его оригинальной философской системе. Его работы “Смысл творчества” и “Философия творчества, культуры и искусства” представляют собой уникальные эстетические трактаты...» (Чжан Бин, 2014).
Современные тенденции изучения наследия Н. Бердяева в Китае характеризуются:
-
– текстуальной реконструкцией (переходом от фрагментарных переводов к полным академическим изданиям с унифицированной терминологией);
-
– междисциплинарной экспансией (применением бердяевских идей в этике, эстетике и политической философии);
-
– интенсификацией международного сотрудничества (реализацией совместных проектов китайских и российских ученых).
Каналы распространения и механизмы влияния . В истории русской мысли, как отмечает Лю Вэньфэй, «Н. Бердяев снискал репутацию мыслителя с проницательным умом, уникальной индивидуальностью и необычайно плодовитым пером» (Лю Вэньфэй, 2021). Рецепция идей Н. Бердяева в Китае осуществлялась через:
-
– специализированные издания («Философские исследования», «Мировая философия» и др.);
-
– университетские образовательные программы (Пекинский педагогический университет, Чжэцзянский университет и др.);
-
– международные научные проекты (в частности, сотрудничество Чжан Байчуня с Российской академией наук).
Эволюция от единичных переводов 1930-х гг. к современному системному изучению отражает трансформацию восприятия русской философской традиции в Китае. Сегодня Н. Бердяев занимает уникальное положение в китайском академическом дискурсе как наиболее переводимый российский религиозный философ, что свидетельствует о его исключительной значимости для китайской научной мысли.
Значение философских идей Н. Бердяева в Китае: переводы и исследования . Изучение наследия философа китайскими учеными сосредоточено на его актуальности для Поднебесной, теоретической ценности и практическом значении высказанных философом идей. Философия Н. Бердяева, охватывающая проблемы русской национальной идентичности, культурного духа, индивидуальной личности и философии истории, представляет важный ориентир для Китая в вопросах культурного развития, формирования национального самосознания, построения гражданской личности и модернизационных процессов.
В работе «Бердяев о русской национальности и национализме» Чжао Хайфэн отмечает, что анализ философом противоречивости русского национального характера (включая иррациональные характеристики, влияние централизованной государственности и национализма) имеет общие черты с восточными народами. По мнению ученого, преодоление иррациональных элементов в национальном характере – общая задача для многих стран Востока. Для КНР, где традиционно делается акцент на покорности, слабой самостоятельности и коллективистских традициях, размышления Н. Бердяева особенно значимы. Китайской нации необходимо интегрировать современный просветительский дух, углубляя ценные аспекты традиции и закладывая более прочный фундамент для ее модернизации (Чжао Хайфэн, 2014: 67). Кроме того, Чжао Хайфэн подчеркивает, что внимание Н. Бердяева к жизненной силе и творческому началу в национальном духе имеет особое значение для Китая. В процессе реформ и открытости перед страной стоит задача инновационного развития, требующая раскрытия творческого потенциала каждого члена общества. Это предполагает интеллектуальную активность, способность к самостоятельному мышлению и преодоление шаблонов, что делает национальный дух более уверенным, молодым и полным энергии (Чжао Хайфэн, 2014: 68).
По мнению Н. Бердяева, «культура всегда имеет национальный характер и национальные корни. Интернациональная культура невозможна. Это была бы культура коммивояжеров» (Бердяев, 1994: 347). Бытие нации, как отмечал Н. Бердяев, не определяется и не исчерпывается ни расой, ни языком, ни религией, ни территорией, ни государственным суверенитетом, хотя все эти признаки более или менее существенны для национального бытия. Наиболее правы те, кто определяет нацию как единство исторической судьбы (Бердяев, 1990 б: 93–94).
Философ критиковал тенденцию к изолированному восприятию национального и общечеловеческого, подчеркивая их взаимозависимость, а не противопоставление. О.Д. Мачкарина считает, что «процесс взаимодействия культур не прекращается, какого бы высокого уровня ни достигла та или иная национальная культура, так как последняя, впитывая достижения других народов, развивает одновременно и свои самобытные начала. Есть только один исторический путь к достижению высшей человечности – путь национального роста и развития, национального творчества» (Мачкарина, 2008: 25).
Дин Шуцинь, обращаясь к произведениям Н. Бердяева, утверждал, что у философа культура всегда национальна по своей природе, она проявляется через убеждения каждого народа. Эта концепция помогает сформировать правильное понимание культуры, осознать многообразие мировых культур и ценность каждой из них для человеческой цивилизации, избегая тем самым культурного центризма и узкого национализма, способствуя межкультурному диалогу (Дин Шу-цинь, 2008: 38–39).
Философская трактовка «национального» у Н. Бердяева, акцентирующая взаимосвязь культурной уникальности и общечеловеческих ценностей, способствует осознанию объективной реальности культурного многообразия. Особую актуальность для Китая представляет подход философа к соотношению национального и общечеловеческого в культуре. «Все великие национальные культуры, – пишет Н. Бердяев, – всечеловечны по своему значению» (Бердяев 1990 a: 97).
Утверждая мировое значение национальных культур как составных элементов культуры общечеловеческой, где без локального не может быть глобального, Н. Бердяев удивительным образом оказывается связан с концепцией китайского социолога и антрополога Фэй Сяотуна: «Ценить свою красоту, ценить красоту других, вместе созерцать всеобщую красоту – вот путь к гармонии во всем мире» (Фэй Сяотун: 2004). Из этого Китай может извлечь важные уроки: с одной стороны, необходимо укреплять культурную идентичность, полностью осознавая уникальную ценность китайской цивилизации и сохраняя ее лучшие традиции; с другой – в межкультурном диалоге следует придерживаться открытости и толерантности, уважая и ценя различия и достоинства других культур, содействуя их многообразному взаимодействию и совместному развитию. Одновременно важно избегать предубеждений национального эгоцентризма, следуя базовым принципам межкультурного взаимодействия, способствуя выработке гуманитарных ценностных консенсусов между различными культурами для их мирного сосуществования и вклада в создание сообщества единой судьбы человечества. «В межнациональном общении важно ценить культуру не только своего народа, но и других. С развитием общества, прогрессом науки и технологий, усилением информационного обмена взаимодействие и диалог между разными народами и регионами давно вышли за первоначальные границы, а взаимопроникновение культур стало исторической тенденцией» (Дин Шуцинь, Ши Яньлин, 2003: 26).
Значение теоретических концептов Н. Бердяева для модернизации Китая и осмысления исторического пути его развития . Философские идеи Н. Бердяева представляют особую ценность для современного духовно-культурного строительства Китая. Акцентируя независимость индивидуальной личности, философ утверждал, что человек должен сохранять свою уникальность, избегая полного растворения в социуме, и одновременно достигать свободы и творчества через духовное преодоление. Как отмечает Сюй Цян, «теория личности Н. Бердяева дает важные ориентиры для формирования гражданского самосознания в нашей стране» (Сюй Цян, 2014: 13). Эти идеи предоставляют ценные теоретические основания для совершенствования национальной личности и развития гражданской культуры в Китае.
В своем произведении «Смысл творчества» Н. Бердяев пишет: «Творчество – тайна. Тайна творчества есть тайна свободы. Тайна свободы бездонна и неизъяснима» (Бердяев, 2015: 104). Его концепция свободной и творческой личности помогает китайскому обществу в условиях рыночной экономики преодолевать материалистические ограничения и стремиться к духовной свободе.
Анализ Н. Бердяевым противоречий русского национального характера (например, сочетания анархизма и имперской экспансии), обусловленных геополитикой, крепостничеством и православием, актуален для Китая в осмыслении соотношения национальной идентичности и модернизации. Кроме того, утверждение философа о культурном многообразии (национальное и общечеловеческое в культуре не должны противопоставляться) дает теоретическую основу для баланса в условиях глобализации (Дин Шуцинь, Ши Яньлин, 2003: 26).
Анализ Н. Бердяевым российского пути развития (включая критику славянофильства и западничества) предлагает ценные уроки для Китая в решении вопроса о соотношении традиционной и заимствованной культур в процессе модернизации. Его идеи помогают избежать национализма в глобализирующемся мире, формируя взвешенное понимание культуры, которое опирается и на национальную специфику, так и на общечеловеческие ценности, создавая теоретическую базу для интеграции китайской культуры в мировое пространство. Как подчеркивает Чэнь Хун в работе «Философские искания Бердяева: поиск абсолютного», концепция духовного царства дает важные ориентиры для критики утопических исторических проектов и формирования новой философии истории. Н. Бердяев рассматривал историческое развитие как открытый процесс, где человек выступает субъектом эволюции, а прогресс должен быть направлен на изменение образа жизни и возвышение человеческого существования. Эти идеи имеют особое значение для Китая в осмыслении исторического процесса, роли человека и системы ценностей в контексте модернизации (Чэнь Хун, 2006).
Заключение . Философское наследие Н. Бердяева в китайских исследованиях обладает не только теоретической ценностью, но и предоставляет глубокие практические ориентиры для формирования национального самосознания, построения гражданской личности, осмысления культурного многообразия и поиска путей модернизации. Критическое восприятие его идей китайскими учеными обогатило интеллектуальную базу для социальной трансформации и культурного развития КНР.
Как выдающийся представитель русской религиозной философии, Н. Бердяев прошел в Китае путь от малоизвестного мыслителя до объекта академического изучения со стороны научного сообщества. Системный анализ распространения, исследовательских направлений и влияния его философии позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, перевод и распространение идей Н. Бердяева открыли новые перспективы для понимания русской религиозной философии в китайской академической среде. Публикация его трудов не только обогатила источниковую базу исследований русской философии, но и стала своеобразным окном в духовный мир России для национальных ученых и читателей.
Во-вторых, китайские исследования творчества Н. Бердяева сосредоточились преимущественно на религиозно-философских, этических аспектах и проблематике русской национальной психологии. Эти работы раскрывают не только внутреннюю логику бердяевской мысли, но и демонстрируют ее критическое осмысление и творческую адаптацию китайскими исследователями.
Наконец, значение философии Н. Бердяева для Китая выходит за рамки чистой науки, обладая важной социокультурной значимостью. Его идеи дают ценные ориентиры для осмысления национального характера и просветительских традиций, культурного многообразия, а также проблем модернизации и исторического развития.
Таким образом, перевод, изучение и влияние философии Н. Бердяева в Китае не только углубили двусторонний диалог, но и внесли новый импульс в академические исследования и социокультурное строительство. Дальнейшее изучение темы открывает перспективы для более многогранного восприятия и трансформации его идей, что обогатит культурный обмен между нашими странами и общечеловеческие духовные искания. Его размышления о свободе, творчестве и духовных ценностях представляют особый ресурс для культурной рефлексии в контексте китайской модернизации. Перспективным направлением может стать углубленное изучение возможностей диалога его концепций с китайской традиционной мыслью для развития межкультурного философского взаимодействия.