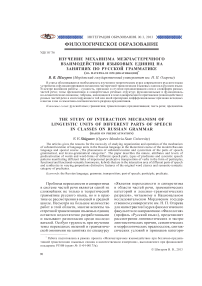Изучение механизма межчастеречного взаимодействия языковых единиц на занятиях по русской грамматике (на материале предикативации)
Автор: Шигуров Виктор Васильевич
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Филологическое образование
Статья в выпуске: 3 (72), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается необходимость изучения в теоретическом курсе современного русского языка устройства и функционирования механизма частеречной транспозиции языковых единиц в русском языке. В центре внимания работы - сущность, признаки и ступени предикативации слов и словоформ разных частей речи; типы предикативов и синкретичных речевых структур; функциональные и функционально-семантические омонимы; гибриды, находящиеся в зоне одновременного притяжения (взаимодействия) разных частей речи и синтезирующие в той или иной пропорции дифференциальные признаки исходных классов слов и семантико-синтаксического разряда предикативов.
Русский язык, грамматика, транспозиция, предикативация, часть речи, предикатив
Короткий адрес: https://sciup.org/147136979
IDR: 147136979 | УДК: 81’36
Текст научной статьи Изучение механизма межчастеречного взаимодействия языковых единиц на занятиях по русской грамматике (на материале предикативации)
Проблема переходности и синкретизма в системе частей речи является одной из сложнейших не только в теоретической грамматике русского языка, но и в практике ее рассмотрения в высшей и средней школе. Несмотря на большое количество работ в этой области, многие аспекты частеречной транспозиции языковых единиц остаются недостаточно разработанными и вызывают разногласия среди исследователей. Особую трудность при изучении темы переходных явлений и грамматической омонимии на занятиях по спецкурсу
«Явления переходности и синкретизма в области частей речи, грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов», читаемому в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева для магистрантов I курса филологического факультета по направлению «Филология» (профиль «Русский язык»), представляет рассмотрение лингвистических и экстра-лингвистических причин, семантических и морфологических предпосылок, синтаксических условий и признаков категори- ального перерождения слов и словоформ, ступеней их транспозиции из одного класса в другой. Применение метода оппозиционного анализа и индексации при этом позволяет объективировать результаты исследования.
Изучение фактов синкретизма в грамматическом строе русского языка вскрывает особенности устройства и функционирования механизма ступенчатой транспозиции языковых единиц на уровне частей речи, грамматических категорий, лексико-грамматических разрядов и т. д. как явления языка в действии, в ситуации общения. Исследователи, представляющие разные направления и школы в лингвистике (О. М. Ким, В. В. Богданов, И. В. Дьячук, Ю. С. Степанов, Е. С. Кубрякова и др.), рассматривают транспозицию как инструмент, который позволяет глубже осмыслить функциональные возможности языковой системы, выявить характер взаимодействия единиц одного и того же или разных уровней языка при выражении семантически разноплановой и емкой информации.
Под транспозицией в сфере частей речи принято понимать процесс изменения структурно-семантических признаков слова, заключающийся в ослаблении и утрате в нем свойств одной какой-то исходной части речи и приобретении и укреплении свойств производной части речи или межчастеречного лексико-грамматического разряда слов – предикативов, модально-вводных слов, реже – признаков сразу нескольких частей речи (см., в частности, исследования В. Н. Миги-рина, В. В. Бабайцевой, А. Я. Баудера, О. М. Ким, В. В. Шигурова и др.).
Необходимость исследования устройства и функционирования механизма частеречной транспозиции очевидна: он порождает в речи разные типы и звенья категориальной трансформации лингвистических единиц, концентрируя «сгустки» человеческой мысли – синкретичные образования с набором дифференциальных свойств разных классов слов. Этапы (ступени и подступени) частеречной транспозиции слов и словоформ при этом устанавливаются методом оппозиционно- го анализа и индексации (см., например, исследования В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, Е. П. Калечиц, В. В. Шигурова, И. В. Высоцкой и др.).
Разные типы многоступенчатой транспозиции слов и словоформ из одного класса в другой (как одиночные, так и совмещенные в одной лексической единице) порождают в итоге грамматические и лексико-грамматические омонимы, а также синкретичные речевые образования, совмещающие в своей структуре свойства нескольких частей речи – двух, трех, четырех и т. д. [9, с. 14–19]. Такого рода периферийные и гибридные структуры позволяют экономно и семантически емко передавать человеческие мысли и чувства во всем их многообразии и естественном переплетении [2, с. 179]. Синхронное исследование фактов транспозиции и синкретизма в грамматическом строе русского языка дает основание утверждать, что система частей речи отражает концептуальную картину мира, элементы которой диалектически взаимосвязаны и взаимообусловлены. В связи с этим адекватным можно признать такое описание системы частей речи, которое раскрывает механизм их взаимодействия, взаимопроникновения, соприкосновения друг с другом разными гранями, что проявляется в разной комбинаторике и удельном весе категориальных признаков в структуре словоформ, включенных в один или несколько транспозиционных процессов на уровне частей речи.
Рассмотрение типов ступенчатой транспозиции в сфере частей речи, грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов (а также в области синтаксических единиц – синтаксем, словосочетаний, предложений и др.) позволяет выявить определенные тенденции, динамику в развитии тех или иных фрагментов языковой системы; использование в процессе языковой эволюции разных способов обогащения частей речи, прежде всего за счет собственных, внутренних ресурсов – «расщепления» (раздвоения, растроения и т. п.) слов и образования на базе комплекса или отдельных словоформ исходных лексем новых языковых еди- ниц при функциональной и функционально-семантической адъективации, адвербиализации, прономинализации, интеръективации и т. п. Такие единицы могут приобретать вариативные формы. Наиболее радикальной трансформации среди наречий подвергается, как известно, синтетическая форма компаратива тише, которая развила при интеръективации серию вариантов, находящихся в отношении свободного варьирования: Тсс! Чш! Тш! и др. По замечанию Л. П. Крысина, литературная норма, несмотря на строгость и консерватизм, «допускает совместное функционирование вариантов одной и той же языковой единицы» [6, с. 8–9]. Нечто схожее можно наблюдать и при интеръективной транспозиции глаголов и существительных, которые также изменились в фонетико-графическом отношении: Хватит! → Хва!; Пали! → Пли!; Готовься! → Товсь!; Возьми! → Взы!; Укуси! → Кусь! → Усь!; Марш! → Арш!
В комплексном, разноаспектном анализе нуждается феномен предикативации языковых единиц, понимаемый нами как вид ступенчатой транспозиции слов и словоформ из разных частей речи в семантико-синтаксический разряд предикативов. Основной акцент необходимо делать на выявлении типов взаимодействия фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических и синтаксических факторов в процессе безлично-предикативной транспозиции лингвистических единиц; установлении синхронных семантико-синтаксических и словообразовательных связей предикативов с существительными, прилагательными, наречиями, глаголами, местоимениями, междометиями, а также с семантико-синтаксическим разрядом модально-вводных слов.
Особую трудность представляет анализ разных типов гетерогенных речевых структур, находящихся в зоне взаимодействия (притяжения) сразу нескольких частей речи. Специального рассмотрения заслуживают и интеграционные процессы, обусловливающие взаимодействие в структуре тех или иных категориально перерождающихся словоформ диффе- ренциальных признаков глаголов, существительных, прилагательных, наречий, местоимений и междометий. Одной из важнейших задач является осмысление системы критериев для разграничения грамматических и лексико-грамматических омонимов (ср.: Его лицо было весело – краткое прилагательное в позиции предиката; Он весело рассказывал о чем-то – наречие в роли обстоятельства и Ему было весело; Весело кататься с горки – функциональный предикатив в роли предиката безличной конструкции), а также разного рода синкретичных (периферийных и гибридных) образований, представляющих те или иные звенья на шкале предикативной транспозиции (ср. гибрид с препозитивным инфинитивом-подлежащим: Кататься с горки весело).
Основной объект изучения – это корпус производных предикативов и синкретичных образований, возникших вследствие предикативации существительных, прилагательных, наречий, глаголов в форме страдательных причастий и местоимений. Исследование конструкций с разной степенью предикативированными словами и словоформами тех или иных частей речи дает возможность установить ступени (этапы) предикативации языковых единиц разных частей речи; уточнить корпус синкретичных речевых структур, представляющих разные звенья (с более дробными подразделениями внутри каждого из них) предикативной транспозиции лексических единиц указанных семантико-грамматических классов; установить экстралингвистическую и лингвистические причины (в частности, потребность в компактном выражении многообразия оттенков мыслей за счет речевых структур, синтезирующих в разной пропорции дифференциальные признаки нескольких частей речи), семантические и морфологические предпосылки, синтаксические условия, форму, признаки и предел транспозиции существительных, прилагательных, наречий, глаголов, местоимений в статальные, оценочные и статально-оценочные предикативы (изменения на уровне их лексической и грамматической семантики, морфологических категорий, морфемной структуры, валентности, фонетических особенностей и др.).
Предикативация занимает, как известно, особое место среди транспозиционных процессов в системе частей речи русского языка. Если в процессе, например, субстантивации, адвербиализации, адъективации и т. п. слова или словоформы категориально «раздваиваются» и «отпочковавшиеся» от них «двойники» переходят из одной части речи в другую, то при предикативации языковые единицы разной категориальной принадлежности (пора, легко, некогда, проветрено и т. п.) не перерождаются в какую-то новую часть речи, а используются в речи «нестандартно» – в особой синтаксической функции предиката односоставного безличного предложения для передачи семантики состояния и/или оценки, утрачивая (или нейтрализуя) в этой позиции семантические, морфологические и синтаксические признаки исходных частей речи, избыточные для данного употребления. Сходную природу имеет и процесс модаляции, суть которого также состоит не в перемещении одной или нескольких словоформ лексемы ( конечно, главное, факт, кажется и др.) из одного класса в другой, а в их необычном использовании – в позиции вводности для выражения разных субъективно-модальных значений, что, как и в случае с предикативацией, сопровождается утратой исходными словоформами тех дифференциальных признаков частей речи, которые в данном контексте оказываются нерелевантными. Ср.: Вы пришли кстати (наречие в функции обстоятельства) и Кстати , письмо от Вас я получил (наречие в позиции модально-вводного компонента высказывания).
Результатом предикативной транспозиции языковых единиц является образование предикативов (или, в иной терминологии, слов категории состояния, слов состояния, имен состояния, безлично-предикативных форм и т. п.). При всем разнообразии их трактовок наиболее убедительным представляется тот подход, который получает развитие в последних академических грамматиках русского языка, где предикативы – это не часть речи, а особый семантико-синтаксический разряд слов и словоформ, имеющий межкатегориальный (межчастеречный) характер [5, с. 22–23].
Примечательна в этом плане позиция академика Ю. Д. Апресяна, строящего концепцию предикативов исключительно на синтаксической основе [1, с. 529]. С точки зрения автора, «предикатив – слово, всегда используемое в предикативной функции» [1, с. 529]. К предикативам Ю. Д. Апресян относит слова разной частеречной отнесенности в функции предиката двусоставных и односоставных (безличных) конструкций: а) наречия (и наречные обороты) типа больно, жалко, замужем, с головой, не в себе, вне себя ( Ему было больно ; Мне там было с головой ); б) краткие прилагательные типа виден, волен, горазд, здоров, должен, намерен, рад, мал, прав ( Здоров врать! ); в) существительные типа грех (жаловаться) ; лень (вставать) ; охота (спорить с ним) .
Функциональная транспозиция словоформ разных частей речи в предикативы, на наш взгляд, имеет ступенчатую природу. Это значит, что одна и та же, например, адъективная лексема может представлять в двусоставных и односоставных конструкциях разные этапы на пути к предикативам. Сравним типовые контексты предикативации: 1) холодное ( Лето было холодное ; полное прилагательное с четырьмя категориями – степеней сравнения, рода, числа и падежа) → 2) холоднó ( Помещение было холоднó ; краткое прилагательное с тремя категориями – степеней сравнения, рода и числа) → 3) холодно ( В доме было холодно ; предикатив с одной категорией – степеней сравнения).
Предикативы подразделяются на две группы: 1) слова и словоформы разных частей речи (существительное, прилагательное, наречие, глагол в форме краткого страдательного причастия, местоимение), использующиеся в безлично-предикативной позиции с семантикой состояния и/или оценки (действия); например: лень работать, страшно смотреть, в комнате не убрано и т. п.; 2) слова в позиции безличного предиката с семантикой состояния и/или оценки, не имеющие в современном языке соответствий (коррелятов) среди ядерных слов знаменательных частей речи; например: жаль его; надо подумать; можно остаться; стыдно говорить и т. п. (при возможности, правда, отдельных «рецидивов» субстантивности и адъективности в гибридных речевых структурах типа Как жаль! Это можно!). Общая семантика предикативов «состояние и/или оценка» проявляется трояко, в связи с чем их можно разделить на три типа – два основных, «чистых»: 1) со значением состояния (напр.: На улице пасмурно) и 2) со значением оценки (напр.: Отсюда было далеко до озера), и один синкретичный: 3) со значением состояния и оценки (напр.: Ему весело кататься с горки).
Механизм предикативации слов и словоформ предполагает «сложное грамматическое переплетение» в их структуре свойств и функций разных частей речи – имен (существительное, прилагательное, числительное, местоимение), глаголов и наречий. Формы проявления этого взаимодействия многообразны. Так, адъективные словоформы (жалко, больно и т. п.) при предикативации оказываются «в зоне интересов» (притяжения) глаголов и наречий, приобретая, с одной стороны, глагольные характеристики (семантика состояния, функция предиката, безличность, сочетаемость с инфинитивом, прямая переходность, напр.: жалко его обижать; больно глотать), а с другой – некоторые адвербиальные признаки (неизменяемость, наличие суффикса -о, значение признака действия (у словоформы типа весело на ступени гибридности шкалы предикативации, представленной в двусоставной конструкции с препозитивным инфинитивом-подлежащим: Кататься с горки – весело – полуприлагательное / полунаречие / полупредикатив)). В итоге предикативация адъективной словоформы связана с ее «включенностью» сразу в два транспозиционных процесса на уровне частей речи – вербализацию и адвербиализацию. При этом разная степень сближения языковой единицы с глаголами и наречиями может быть установлена при помощи оппозиционного метода и индексации отдельных ступеней и предела ее предикативной транспозиции.
Ситуацию осложняет то обстоятельство, что предикативирующаяся адъективная словоформа нередко оказывается в зоне притяжения не только прилагательных, глаголов и наречий, но и других классов слов, в частности местоимений-числительных с семантикой неопределенного множества (типа несколько ) и императивно-эмотивных междометий. Сравним разные типы транспозиций словоформы достаточно : 1) Этих книг достаточно (т. е. столько, сколько необходимо: адвербиализация и прономинализация – местоименно-числительный тип употребления адвербиализованной адъективной словоформы); 2) Иногда достаточно взглянуть на человека, чтобы понять, кто он (сближение с глаголами и наречиями (в рамках предикативации: количественная оценка действия в инфинитиве), а также с неопределенными местоимениями-числительными (при прономинализации)); 3) Достаточно плакать, сколько можно! (интеръекти-вация (эмоциональный призыв к прекращению действия), предикативация (т. е. вербализация и адвербиализация), прономинализация) (см. концепцию степеней интенсивности, полноты и достаточности качества, разрабатываемую в исследовании Ю. Л. Воротникова [4]).
Подверженность двум типам транспозиции обнаруживают словоформы мало, недостаточно в сочетании с постпозитивным примыкающим инфинитивом; ср.: Мало понять, надо действовать (предикативация + прономинализация). Примечательно и функционирование словоформы Горько! (возглас гостей за свадебным столом, призывающий молодых поцеловаться и тем самым, по ритуалу, снять ощущение горечи во рту от выпитого вина, шампанского и т. п.) в синкретичном контексте интеръективации, вербализации и предикативации.
«Чистый» и «совмещенный» типы предикативации могут демонстрировать словоформы холодно, жарко, больно, плохо и т. п.: 1) Ему холодно (предикатив с семантикой физического состояния субъекта; предикативация) и 2) Мне холодно! Ты не слышишь?! (при поддержке императивной интонации фраза может имплицировать смысл ‘Закрой дверь, окно!’; предикативация, интеръекти-вация и вербализация). Аналогично: 1) В комнате жарко (предикативация) и 2) Мне жарко! (может означать на уровне пресуппозиции ‘открой форточку’, т. е. сделай нечто, в результате чего мне станет лучше; предикативация, интеръективация и вербализация). Сравним также надпись Опасно: тигры! (предикативация (негативная оценка ситуации с импликацией эмоционального состояния субъекта) + вербализация (сближение с глагольным императивом; ср.: Остерегайтесь! Будьте осторожны!) + интеръективация (сближение с императивно-эмотивным междометием)). Академик В. В. Виноградов подчеркивал, что «в живом языке… нет идеальной системы с однообразными, резкими и глубокими гранями между разными типами слов. Грамматические факты двигаются и переходят из одной категории в другую, нередко разными сторонами своими примыкая к разным категориям» [3, с. 45–46].
Исследование процесса предикатива-ции (и параллельно протекающих с ним иногда других типов транспозиции) слов и словоформ разных частей речи с использованием методики оппозиционного метода позволило выявить ступенчатый характер их категориального преобразования, представив результаты анализа графически, в виде соответствующих шкал предикатива-ции, где отмечены звенья, фиксирующие взаимодействие в словоформе признаков нескольких классов слов.
Ступени безлично-предикативной транспозиции единиц разных частей речи весьма специфичны. Проиллюстрируем основные этапы предикативации страдательных причастий в русском языке, используя для этого шкалу переходности, включающую исходный пункт движения (звено П(рич) / п(рил) – прототипические, ядерные причастия в полной форме), зону периферии причастий в краткой форме (звено П(рич) / п(рил) : п(ред) – причастия в краткой форме), сферу гибридных образований (звено п(рич) / п(рил) : п(ред)), зону периферии предикативов (звено п(рич) / п(рил) : П(ред)), конечный пункт движения (звено П(ред) – прототипические, ядерные предикативы). Ср.: 1) Звено П(рич) / п(рил): Только четверо четырнадцатилетних подростков посещали это забытое Богом и людьми место (М. Милованов); 2) Звено П(рич) / п(рил) : п(ред): Все книжное было забыто (В. Т. Шаламов); 3) Звено п(рич) / п(рил) : п(ред): Это все видели. – Ладно. Забыто уже (Г. Владимов); Уже забыто, что когда-то здесь был парк; 4) Звено п(рич) / прил : П(ред): Кажется, ничего не было забыто… (В. А. Каверин); 5) Звено П(ред): В мае не положено жениться: всю жизнь маяться будут (Д. Гранин).
Графическая экспликация этапов пре-дикативации страдательных причастий на шкале переходности требует нескольких замечаний. Во-первых, звено П(ред) , манифестирующее центр (ядро) предикативов, представлено, с одной стороны, краткими формами страдательных причастий на - но , - то , подвергшимися функционально-семантической предикативации ( разрешено, запрещено, положено и некоторые другие; В этом месте запрещено купаться (≈ ‘нельзя, не следует купаться’)), а с другой – предикативами, утратившими соотносительность с прототипическими, т. е. полными, страдательными причастиями ( приказано ехать, велено собираться в дорогу и т. п.; ср. невозможное: * прика-занный ; * веленный …), а также иногда и краткими ( не суждено тебе быть … и т. п.). Поэтому к ядру предикативов не могут быть отнесены функциональные предикативы вроде сказано, написано, сообщено, послано, куплено, получено ( Извещения пока не получено ): они сохраняют в современном языке структурно-семантическую соотносительность с исходными причастными формами глаголов ( На столе лежало полученное им извещение; Вчера им получено новое извещение ).
Во-вторых, причастия типа убрано, подметено, освещено, проветрено (В зале хорошо освещено; В старом помещении недавно было покрашено) подвергаются в безличной позиции двум типам транспозиционных преобразований – адъективации и предикативации, в связи с чем для предикативов и гибридных, причастно-адъективно-предикативных образований затруднительно установление одного какого-либо исходного пункта предикати-вации: они в равной мере могут быть соотнесены с причастиями и отпричастными прилагательными. Это обстоятельство заставляет выделять двойные переходные зоны типа п(рич) / п(рил) : П(ред) (периферийный предикатив (В комнате убрано, проветрено и т. п.)); ср. соотносительные с ним причастие (Комната недавно убрана и проветрена дежурным) и отпричастное прилагательное, функционирующие в пределах исходной глагольной лексемы убрать (Комната убрана и проветрена).
В-третьих, отдельные ступени шкалы переходности могут быть представлены в виде подступеней, фиксирующих в совмещенных контекстах предикативации и адъективации более дробную градацию этапов транспозиции словоформ в предикативы: ср.: п(рич) / п(рил) : п(ред) 1, п(рич) / п(рил) : п(ред) 2 и т. д. Особенность этого типа межчастеречной транспозиции состоит в том, что он имеет двойственный характер: одно и то же причастие подвергается в разных контекстах как функциональной, так и функционально-семантической предикативации. Кроме того, предикативация языковой единицы может быть сопряжена с ее адъективацией. Сравним два типа транспозиции причастия принятый ( принято ): 1) функциональная предикативация (в рамках глагольной лексемы; напр.: Решения по этому вопросу пока не принято ) и 2) функционально-семантическая предикативация, совмещенная с адъективацией (напр.: Об этом не принято говорить ) (подробнее см. в [10, с. 38–48]).
Анализ процесса и результата безлично-предикативной транспозиции языковых единиц позволяет выявить типы омонимического столкновения частей речи, их представленность в лингвистических словарях; разработать систему критериев для разграничения функциональных и функционально-семантических омонимов, а также синкретичных, гибридных структур, появившихся вследствие пре-дикативации и сопутствующей ей в ряде случаев вербализации, интеръективации, адъективации, модаляции и др.
Процесс ступенчатой предикативации страдательных причастий ведет к образованию функциональных и функционально-семантических омонимов, которым соответствуют определенные звенья на шкале переходности. Функциональный тип омонимии эксплицируют звенья шкалы пре-дикативации причастий: П(рич) / п(рил) : п(ред) - п(рич) / п(рил) : П(ред) . Таковы грамматические (функциональные), но не лексические омонимы типа послано (краткое страдательное причастие) – послано (отпричастный предикатив). Сравним, например, два типа употребления причастия послано : 1) собственно глагольный тип употребления в двусоставном предложении: Письмо послано на неделю раньше телеграммы (В. Аксенов); 2) безлично-предикативный тип употребления в односоставном предложении: Начальник штаба, за которым было послано , не появлялся (А. Анфиногенов). Предика-тивация причастий не приводит в таких случаях к появлению новых лексических единиц языка. Перед нами чисто грамматический процесс порождения отпри-частных предикативов в недрах исходных глагольных лексем, т. е. факт лексической полисемии.
Функционально-семантический тип омонимии представлен звеньями преди-кативации: П(рич) / п(рил) : п(ред) и П(ред) . Это лексические и грамматические омонимы вроде: принято (краткое страдательное причастие) – принято (от-причастный предикатив). Ср.: 1) На этот раз заявление было принято без проволочек… (С. Данилюк); 2) На шарашке… стало принято переделывать фамилии тюремных начальников на греческие – Мышинопуло, Климентиадис, Шикиниди (А. Солженицын).
Аналогичный тип лексико-грамматической омонимии демонстрируют и другие типы частеречной транспозиции языковых единиц. Примечательна в этом плане, например, прономинализация причастий, приводящая к омонимическим столкновениям словоформ типа соответствующий (причастие) и соответствующий (отпричастное местоимение). Напр.: Диссертация, соответствующая (ср.: соответствовавшая) требованиям ВАКа… и Нужно принять по этому вопросу соответствующее (ср.: *соответ-ствовавшее) решение (см. в [8]).
Любопытно, что иногда лексическую (а не грамматическую) омонимию представляют такие звенья частеречной транспозиции языковых единиц, как ядро и периферия исходного класса слов. При этом периферийные образования могут испытывать тяготение со стороны одной или нескольких частей речи. Сравним следующие типы употребления финитных глаголов и существительных: 1) собственно глагольный тип: Завались на диван и спи ; 2) собственно субстантивный тип: Туристы увидели пропаст ь ; 3) местоименно-числительный тип: Ягод в этом году завались , т. е. очень много ; аналогично: Дел – пропасть ! (см. в [7, с. 34–43; 8]).
В заключение отметим, что грамматических омонимов не образуют словоформы, представляющие зоны ядра и гибридности на шкале частеречной переходности. Сравним, например, типичное существительное человек и существительное-местоимение человек : 1) Человек как биологический тип возник … и 2) Иванов – человек своеобразный.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-
1. Апресян, Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1: Парадигматика / Ю. Д. Апресян. – Москва : Языки славянских культур, 2009. – 568 с.
-
2. Бабайцева, В. В . Явления переходности в грамматике русского языка / В. В. Бабайцева. – Москва : Дрофа, 2000. – 640 с.
-
3. Виноградов, В. В . Русский язык : (Грамматическое учение о слове) / В. В. Виноградов. – Москва : Высш. шк., 1986. – 640 с.
-
4. Воротников, Ю. Л. Безотносительные степени качества в русском языке / Ю. Л. Воротников // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – 2000. - Т. 59, № 1. – С. 36–43.
-
5. Краткая русская грамматика / В. Н. Белоусов, И. И. Ковтунова и др. ; под ред. Н. Ю. Шведовой, В. В. Лопатина. – Москва : Рус. яз., 1989. – 639 с.
-
6. Крысин, Л. П. Системные возможности языка и их реализация в узусе / Л. П. Крысин // Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов : материалы Междунар. науч. конф., г. Волгоград, 24–27 апреля 2005 г. / ВолГУ ; оргкомитет: О. В. Иншаков (пред.) [и др.]. – Волгоград : Изд-во ВолгГУ, 2005. – С. 5–13.
-
7. Шигуров, В. В. Местоименно-числительный тип употребления глаголов : лексика и грамматика / В. В. Шигуров // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – 2002. – № 2. – С. 34–43.
-
8. Шигуров, В. В. Прономинализация как тип ступенчатой транспозиции словоформ в системе частей речи : (Материалы к транспозиционной грамматике русского языка) / В. В. Шигуров. – Саранск : Крас. Окт., 2003. – 144 с.
-
9. Шигуров, В. В. Типология употребления атрибутивных форм русского глагола в условиях отрицания действия / В. В. Шигуров ; науч. ред. Л. Л. Буланин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1993. – 385 с.
-
10. Шигуров, В. В. Функционально-семантический тип транспозиции причастий в предикативы : ступени, признаки, предел / В. В. Шигуров // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – 2011. - Т. 70, № 5. – С. 38–48.
Поступила 12.04.13.
Об авторе :