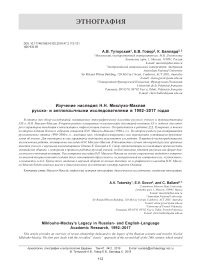Изучение наследия Н.Н. Миклухо-Маклая русско- и англоязычными исследователями в 1992-2017 годах
Автор: Туторский А.В., Говор Е.В., Баллард К.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье дан обзор исследований, посвященных этнографическому наследию русского ученого и путешественника XIX в. Н.Н. Миклухо-Маклая. В первом разделе освещается «классический» для второй половины XX в. подход, для которого характерна тенденция к идеализации и мифологизации ученого. Он представлен в работах Д.Д. Тумаркина, а также во втором издании Полного собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая (1990-е гг.). Во втором разделе рассматриваются русскоязычные статьи 1990-2000-х гг., имеющие цель «демифологизировать» или переоценить устоявшиеся представления об ученом. Для некоторых из них характерна недооценка результатов его работы. В третьей части представлены англоязычные работы, посвященные наследию Н.Н. Миклухо-Маклая. В большинстве случаев это перевод русских архивных текстов ученого с научными комментариями. Однако К. Баллард и Е. Говор, продолжающие и в настоящее время изучать океанийские общины, с которыми в прошлом работал русский ученый, особое внимание уделяют рисункам как форме диалогического познания культуры. Рассмотрение наследия Н.Н. Миклухо-Маклая на основе современных подходов к антропологической теории позволит создать более монолитный образ ученого, не расщепленный на «антрополога», «художника», «гуманиста» и т.д. Кроме того, введение в научный оборот не только текстов, но и графического наследия Н.Н. Миклухо-Маклая будет важным шагом к диалогическому исследованию культур народов Океании.
Миклухо-маклай, мифология, история этнографии, диалогическое исследование, советская этнография
Короткий адрес: https://sciup.org/145145928
IDR: 145145928 | УДК: 930.85 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.112-121
Текст научной статьи Изучение наследия Н.Н. Миклухо-Маклая русско- и англоязычными исследователями в 1992-2017 годах
Н.Н. Миклухо-Маклай по праву может считаться трибуном папуасов, первым стационарным исследователем Новой Гвинеи, неординарным этнографом, антропологом и путешественником. В советской науке сложился своеобразный культ ученого. Последний представлялся как основоположник этнографической науки в мире, за 50 лет до Б. Малиновского осуществивший полевое исследование в Меланезии. Имя Н.Н. Миклухо-Маклая но сит Институт этнологии и антропологии Российской академии наук и одна из наиболее почетных премий в области этнографии. Изучение наследия ученого оформилось в особое научное направление – «маклаеведение». К нему принадлежат такие солидные исследователи, как Н.А. Бутинов, Б.А. Вальская, А.Я. Массов, Б.Н. Путилов, Е.В. Ревуненкова, Д.Д. Тумаркин.
Настоящая статья посвящена историографическому анализу публикаций по данной тематике, появившихся за 25-летний период с 1992 по 2017 г. Учеными проделана действительно титаническая исследовательская, архивно-эвристическая, текстологическая работа, в ходе которой в 1950–1954 гг. издано первое собрание сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая. Можно сказать, что это был «золотой век» маклаеведения. После распада СССР советская мифологизация темы стала ослабевать и было опубликовано большое количество разоблачительных статей. При этом начался процесс конструирования новых мифов, в частности, появились работы о сексуальных отношениях ученого с жителями южных стран. В настоящее время в русскоязычном научном сообществе интерес к «теме Маклая» падает. Примечательно, что он возникает у австралийских исследователей.
Задача настоящего исследования – дать критическую оценку научным и околонаучным работам, написанным за рассматриваемый период на русском и английском языках. Особый интерес представляет сравнение подходов австралийских и российских ученых к данной теме. В рамках изучения наследия Н.Н. Миклухо-Маклая «русскоязычная» и «англо- язычная» традиции находятся в примерно равных условиях по количеству источников (т.е. работ Н.Н. Миклухо-Маклая) и объему имеющейся литературы. Такая ситуация для других отраслей этнографического (антропологического) знания представляется необычной. Авторы работы – международная команда исследователей из Москвы и Канберры – предполагают выявить сильные стороны обоих подходов и предложить пути дальнейших исследований.
Традиционные подходы к наследию Н.Н. Миклухо-Маклая в России
Наиболее значимым событием в области изучения наследия ученого стала публикация с 1990 по 1999 г. второго собрания сочинений в шести томах. В его подготовке участвовали Д.Д. Тумаркин, возглавлявший группу, Б.Н. Путилов, Н.А. Бутинов, М.А. Членов, И.М. Золотарева, И.М. Меликсетова, В.И. Беликов из России, Х. Меркель из Германии, Р. Маклай, Л. Бу-шел и Т. Флэннери из Австралии. В шеститомник вошли не изданные ранее тексты, включавшие и полевые записи, более 200 новых рисунков. Был уточнен ряд дат, значимых для понимания жизненного пути ученого. Составителями проведена чрезвычайно важная текстологическая работа: ранее опубликованные тексты освобождены от позднейшей правки; при наличии разных редакций одних и тех же статей выявлен основной текст, а значимые разночтения даны в примечаниях. Все работы снабжены подробными комментариями. В первый и второй тома вошли материалы экспедиций, дневники и полевые записи, в третий и четвертый – научные статьи Н.Н. Миклухо-Маклая по широкому спектру вопросов «о человеке и природе»: по антропологии, этнографии, лингвистике, метеорологии, биологии и ботанике. В этих томах опубликованы и рисунки ученого.
Настоящим научным событием стал пятый том, посвященный эпистолярному наследию Н.Н. Миклухо-Маклая. Он включил 552 письма, из которых 239 были напечатаны впервые. Представлены как тексты на русском языке, так и переводы с немецкого, голландского, французского и английского языков. Значительная работа по подготовке этого тома была проделана Б.Н. Путиловым. В шестом томе опубликованы фотографии предметов из этнографических коллекций, собранных Н.Н. Миклухо-Маклаем, а также рисунки, не вошедшие в предыдущие тома. По сравнению с публикацией 1950-х гг. количество фотографий увеличилось почти в 4 раза – с 260 до 818.
Вместе с тем, открывая новые области интересов, документы и подробности биографии ученого, составители второго собрания сочинений, так же, как и предыдущие, весьма осторожны в оценках Н.Н. Миклухо-Маклая как человека науки. Издание представляет собой прекрасную источниковедческую работу (за что ее и хвалили рецензенты [Комиссаров, 1998; Николаев, 2002]), но за документами трудно увидеть живого человека – самого Николая Николаевича. Такой подход, который мы назовем «классическим» в маклаеве-дении, сохраняется в серии статей.
В рамках данного направления напис ана работа петербургской исследовательницы кул ьту-ры Индонезии и Малайского полуострова Е.В. Ре-вуненковой «Н.Н. Миклухо-Маклай об аборигенах и малайцах Малаккского полуострова» [1994]. Начиная с 1980-х гг. она участвовала в подготовке к изданию Собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая. Впервые специалист по Индонезии и Малаккскому полуострову принимал участие в составлении комментариев к его текстам. Работа Е.В. Ревуненковой, опубликованная в «Этнографическом обозрении», представляет собой научное осмысление вклада ученого в исследование этого региона. Ранее Н.Н. Миклухо-Маклай был известен как исследователь папуасов Новой Гвинеи и других островов Меланезии [Станюкович, 2010].
В 1997 г. в журнале «Этнографическое обозрение» появилась подборка статей, приуроченная к 150-летию со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая. Наиболее примечательной среди них является публикация Д.Д Тумаркина «“Вторая жизнь” Н.Н. Миклухо-Маклая: мифы и предания о русском ученом в Папуа – Новой Гвинее». Интерес к преданиям об ученом – «второй жизни белого папуаса» – возник еще в начале XX в. В 1903 г. немецкий врач Б. Хаген опубликовал краткие воспоминания о том, как описывался ученый в устных преданиях и рассказах жителей залива Астролябия [1903]. В середине XX в. Н.А. Бутинов обобщил значительную часть публикаций на английском и немецком языках в статье «Воспоминания папуасов о Миклухо-Маклае по свидетельствам позднейших путешественников», вошедшей в первое собрание сочинений [1950]. Именно эту линию продолжает в своей работе Д.Д. Тумаркин. Он опирается на информацию австралийских и американских путешественников. В частности, в статье использу- ются записи американского лютеранского миссионера Э. Ханнемана, работавшего в заливе Астролябия в 1940-х гг. В публикации Д.Д. Тумаркина дана ссылка на «недатированный машинописный текст, мимеогра-фическая копия которого находится в библиотеке Университета ПНГ в г. Порт-Морсби» [1997, с. 167]. Можно примерно датировать сбор информации началом 1940-х гг., поскольку в «Информационном бюллетене Миклухо-Маклаевского общества в Австралии» содержится небольшое сообщение «Касательно Маклая» Э. Ханнемана [Hannemann, 1983], в примечании к которому, сделанном Р. Шериданом, написано: «Э.Ф. Ханнеман. Грагер-английский разговорник, Колумбия, Огайо, Совет иностранной миссии Американской лютеранской церкви, 1945, стр. 28. Рассказ местного жителя Борло записан Ханнеманом. Борло родился в деревне Баламби (язык сио). Ему было примерно 32 года в 1974 году» [Ibid., p. 8]. По всей вероятности, здесь допущена ошибка и последнюю дату следует читать как «1944». Другие записи преданий о Н.Н. Миклухо-Маклае принадлежат Р. Шеридану – председателю общества Миклухо-Маклая в Австралии, который побывал на о-ве Били-Били в 1959 г. и подробно описал свою поездку. Также используются опубликованные в издании «Устная история» устные предания, зафиксированные фольклористом М. Мен-нис. Кроме того, привлечены материалы, собранные на островах залива Астролябия некоторыми другими исследователями.
Д.Д. Тумаркин не только ввел в оборот на русском языке англоязычные источники, но и дал их подробный анализ. Вместе с тем следует критически относиться к методологическому посылу статьи, что данные рассказы являются историческими источниками информации о жизни Н.Н. Миклухо-Маклая и что «на бытовом уровне фольклорная традиция, касающаяся Маклая, постепенно начинает отступать и меняться под натиском реального исторического знания» [Тумаркин, 1997, с. 165]. Как мы покажем далее, гораздо более продуктивным будет рассмотрение этих историй с точки зрения диалога культур.
В 1998 и 2000 гг. вышли в свет статьи Л.А. Ивановой, в которых дается новая атрибуция отдельных вещей из коллекций Н.Н. Миклухо-Маклая. Исследовательница определяет предмет, названный в музейном описании «бамбуковым футляром, содержащим два шипа ската», как «колчан для отравленных стрел» для орудия блахан – трубки для метания стрел, аналогичной сумпитану у даяков [Иванова, 1998]; а также устанавливает регион приобретения и дарителя барабана паху и подставки атаакакико [Иванова, 2000].
В 2011 г. вышла биографическая монография Д.Д. Тумаркина «Белый папуас: Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи». Эта книга является своего рода жирной точкой в рамках данного направления. В ней чрезвычайно подробно описан жизненный путь ученого. Автор ведет нас вслед за Миклухо-Маклаем по узким улочкам немецких университетских городов, пустыням Марокко и Аравийского полуострова, дебрям тропического леса, по набережным и песчаным берегам Сиднея. Вместе с главным героем мы встречаемся со светилами немецкой и британской науки. Но до конца книги нас по-прежнему не перестает волновать вопрос: а кто тот человек, с которым мы путешествуем? О чем он размышляет?
Критические мысли о работе Д.Д. Тумаркина прекрасно изложены в рецензии Б.Н. Комиссарова. Во-первых, он удивляется отсутствию обобщений: почему «сведения, рассеянные по многим страницам монографии, не сконцентрированы им в две грозные и тягостные реальности – “ученый и боль” и “ученый и нужда”»? Во-вторых, рецензент с сожалением замечает неуклюжесть в развенчании культа ученого, которая граничит с созданием нового мифологизированного образа Н.Н. Миклухо-Маклая как Дон Жуана Южных морей, – это «излишнее стремление автора (Д.Д. Тумаркина. - А.Т., Е.Г., К.Б. ) “физио-логизировать” образ Миклухо-Маклая, то есть с методичностью, достойной лучшего применения, выявить и описать все случаи сексуальных контактов путешественника и, более того, зафиксировать даже вполне платонические эпизоды, когда тот, созерцая представительниц противоположного пола, возможно, испытывал при этом какие-то эротические чувства» [Комиссаров, 2013, с. 356]. Как ни парадоксально, заявленная предельная непредвзятость стала трансформироваться в новую форму мифа.
Попытки пересмотра традиционных взглядов на образ Н.Н. Миклухо-Маклая
Второй подход к изучению наследия Н.Н. Миклухо-Маклая, появившийся в 1990-х гг., можно назвать «ревизионистским». Одной из первых работ, в которых исследователи стремились отойти от восприятия Маклая как своеобразного культурного героя эпохи сновидений этнографии, стал доклад В.И. Беликова «Баллал Маклай (‘Слово Маклая’)». Автор усомнился в том, что Н.Н. Миклухо-Маклай создал правильный словарь языка бонгу. Ученый знал «всего лишь около 350 слов» и, по его мнению, «в словаре языка бонгу их содержится никак не более тысячи» [Беликов, 1997]. В.И. Беликов считает, что, скорее всего, путешественник использовал не сам язык бонгу, а его упрощенную форму, «своеобразный пиджин». Его лексика восходила к стандартному бонгу, но в ней присутствовали «естественные при такой осложненной коммуникации недоразумения, помноженные на престижность в глазах папуасов того, как говорит Маклай». Автор доклада проводит параллели с языком моту южного побережья Новой Гвинеи.
С одной стороны, не владевший навыками фиксации языков русский первопроходец оказался не в состоянии создать ad hoc такую методику в поле, и его лингвистические заслуги не стоит переоценивать. С другой стороны, дальнейшее развитие контактов европейцев и папуасов на Берегу Маклая и конкретно в Бонгу показывает, что именно русский исследователь XIX в. заложил ту основу, на которой базировались словари последующих лингвистов. Например, в отличие от А. Ханке, предполагавшего, что все языки Берега Маклая можно поделить на два крупных диалекта, подобных «швабскому и баварскому» [Hanke, 1905], русский ученый сразу исходил из идеи существования в каждой деревне своего собственного языка. Принимая выводы о неточности значений записанных Н.Н. Миклухо-Маклаем слов, а также о том, что некоторые из них относились не к собственно языку бонгу, а скорее к некому «идиолекту исследователя» [Станюкович, 2016], не стоит соглашаться с невысокой оценкой лингвистических аспектов полевой работы ученого в целом [Туторский, 2018].
Другая «ревизионистская» статья, написанная профессором кафедры этнологии МГУ Т.Д. Соловей, посвящена научной стратегии Н.Н. Миклухо-Маклая. Автор отталкивается от известного еще со времен Н.В. Каульбарса (который первым работал с архивом путешественника после его смерти) тезиса о том, что Николай Николаевич не является ученым в подлинном смысле этого слова и не способен обобщить и теоретически осмыслить собранный им в ходе экспедиций эмпирический материал. Основной аргумент Т.Д. Соловей – отсутствие какой-либо теории. По ее мнению, «путешествия в Океанию, которые и воздвигли Н.Н. Миклухо-Маклая на пьедестал героя, при всем желании невозможно назвать продуманной и последовательно исследовательской программой» [Соловей, 2011, c. 74]. Т.Д. Соловей высказывает идею (по всей видимости, ее собственное научное кредо) о том, что «вопреки расхожему убеждению <...> факты вовсе не предшествуют теории, а ровно наоборот: ученый подходит к фактам, уже имея теорию или гипотезу, которая может быть выражена открыто и последовательно...» И далее: «Поскольку отказ от всякой теории вообще составлял последовательную позицию Маклая, то это во многом обесценило его интересные и обширные наблюдения...» [Там же, с. 80]. Нежелание использовать теорию для обобщения фактов является, по мнению автора, главной причиной того, что Н.Н. Миклухо-Маклай так и не смог написать свой «opus magnum – обобщающую работу» [Там же, с. 82]. Данный вывод не может быть принят без сопоставления работ ученого с трудами его современников.
В дальнейшем мы вернемся к вопросу о наличии теоретических идей в его работах.
Продуктивным в статье является желание декон-струировать советский миф о Маклае как «культурном герое», своеобразном творце этнографии вообще. Например, автор подчеркивает, что «план поездки в Океанию Миклухо-Маклай разработал в 1869 году, то есть в возрасте 23 лет». Иными словами, тогда, когда он был не сложившимся ученым, а еще студентом, который недавно закончил обучение в европейских университетах. Т.Д. Соловей указывает на психологические особенности исследователя: «Доминантная психологическая черта – тяга к одиночеству – решительно повлияла на жизнь и исследовательскую деятельность Маклая». И далее: «…не случайно его любимым автором был мрачный Шопенгауэр» [Там же, с. 76]. Эти факты позволяют лучше понять личность ученого и его научные взгляды.
Вместе с тем Т.Д. Соловей допускает ряд неточностей. Например, она пишет, что «после высадки на берег Маклай на долгие месяцы оставался один на один с совершенно чужой ему средой» [Там же, с. 77]. Это не совсем так, поскольку вместе с ученым на мысе Гарагасси жили шведский моряк Уль-сон и полинезиец Бой (впоследствии он умер). Кроме того, к дому ученого постоянно приходили местные жители, нередко и из весьма отдаленных деревень. Другое неправильное обобщение исходит из общей логики стереотипных представлений о процессах аккультурации. Т.Д. Соловей пишет: «По мере того, как папуасы лучше его узнавали, в их восприятии образа Маклая усиливались собственно человеческие черты» [Там же, с. 79]. В целом статья ставит важный вопрос о том, что современные работы о Н.Н. Миклухо-Маклае не дают четкого портрета ученого. Мы имеем дело с идеологизированными текстами и культурными мифами. Вместе с тем в работе Т.Д. Соловей при правильной постановке проблемы отсутствует надлежащая аргументация.
Чрезвычайно интересной и действительно новаторской является работа петербургского профессора А.Я. Массова. Она посвящена брошюре, преподнесенной Н.Н. Миклухо-Маклаем великому князю Константину Николаевичу в начале 1887 г. Это был дар высокому покровителю в виде научного труда, содержавшего «наиболее полное на тот момент описание его (Н.Н. Миклухо-Маклая) научных заслуг» [Массов, 2013, с. 112]. Чрезвычайно важно для исследования творчества ученого то, что в брошюре имеются исправления, сделанные его собственной рукой, которые очень точно характеризуют общественные и научные взгляды Н.Н. Миклухо-Маклая.
Анализируя текст и внесенную автором правку, А.Я. Массов пришел к нескольким важным научным выводам. Во-первых, по всей видимости, в Собрании сочинений 1990-х гг. допущена ошибка: этот текст следовало воспроизводить по публикации не в газете «Голос», а в «Известиях Русского географического общества», откуда он и был перепечатан для издания изучаемой брошюры [Там же, с. 114]. Во-вторых, исправление ученым во фразе «между интересными и малоизвестными жителями Новой Гвинеи наиболее интересным представляется мне туземец Новой Гвинеи, homo papua» слова «жителями» на «животными» отражает не расистские взгляды, а скорее распространенное в XIX в. «натуралистическое» видение человека [Там же]. И наконец, в-третьих, использование Н.Н. Миклухо-Маклаем термина «полинезийская раса», куда включались папуасы, было не ошибкой, а особенностью терминологии того времени [Там же, с. 115].
Важен для нас и общий вывод статьи: «К сожалению, в отечественной литературе до сих пор нет сколь-нибудь фундированных исследований о естественно-научных воззрениях и общественно-политических предпочтениях Н.Н. Миклухо-Маклая». И далее: «В 2011 году в монографии Д.Д Тумаркина “Белый папуас” впервые предпринята серьезная попытка проследить естественно-научные воззрения и эволюцию политических взглядов русского путешественника. Однако эта тематика не является главной в труде Д.Д. Тумаркина – его книга прежде всего научная биография Н.Н. Миклухо-Маклая» [Там же, с. 116].
Другой новаторской работой является коллективная монография сотрудников Кунсткамеры и МГУ «Старое и новое в изучении этнографического наследия Н.Н. Миклухо-Маклая». Для нас особенное значение имеют первая и третья главы этой книги, написанные российским австраловедом и исследователем Меланезии П.Л. Белковым. В первой главе, которая посвящена становлению Н.Н. Миклухо-Маклая как человека науки, автор предлагает отказаться от характерного для традиционных работ совместного рассмотрения его научных и общественных взглядов. Подробное изложение последних заслоняет научное кредо ученого. П.Л. Белков указывает, что миф о голом эмпиризме и атеоретичности русского путешественника восходит к высказываниям о нем немецкого орнитолога, служащего Новогвинейской компании О. Фин-ша [Старое и новое…, 2014, с. 17]. Судя по записной книжке «Ethnologia», которую завел Н.Н. Миклухо-Маклай перед поездкой на острова Тихого океана, он был знаком с идеями многих англоязычных (Дж. Ро-уфорда, Дж. Лоу, Дж. Причарда, А.Р. Уоллеса), франкоязычных (Э. Ренана) и немецкоязычных (Т. Вайца, Э. Герланда, К. Земпера, Ф. Мюллера) теоретиков науки о народах. П.Л. Белков высказывает мысль о том, что нам необходимо принципиально иное изучение наследия ученого – «в инфракрасном свете» [Там же, с. 23] или, по выражению Т. Куна, основывающееся на поиске «непреходящих элементов» в прежней науке [1977, с. 19], самой идеи научности в то время. Завершая главу, автор пишет: «Раздельная публикация Миклухо-Маклаем антропологических и этнологических заметок… стала в истории науки первым документом, закрепляющим самостоятельность предметов этих наук» [Старое и новое…, 2014, с. 50]. Таким образом, П.Л. Белков подчеркнул, что теоретическое значение имеет научная деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая сама по себе.
Третья глава работы представляет собой чрезвычайно интересный пример смены оптики, причем не этнографической, а оптики истории науки или философии науки. Автор исходит из уже высказанного им тезиса о том, что теоретические (а в этой главе и практические) идеи Н.Н. Миклухо-Маклая суще ствуют, но исследователи не всегда могут их увидеть. Он не согласен с традиционными маклае-ведами, по мнению которых научная работа ученого по этнологии меланезийцев никогда не была написана или утрачена. П.Л. Белков высказывает смелую идею о том, что она нам хорошо известна: это «две (“толстые”) записные книги (АРГО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 24; Д. 70)» [Там же, с. 99]. Свои рисунки и коллекции предметов сам Маклай характеризовал «как “программу”, или “оглавление”, планируемого им большого труда по этнологии меланезийцев» [Там же, с. 101]. Таким образом, труд Н.Н. Миклухо-Маклая существует, более того, он почти готов к изданию. Нужен лишь конгениальный «издатель», который сможет совместить записные книги с рисунками и коллекциями, а самое главное, понять всю информацию, содержащуюся в «полевых конспектах-рисунках». Эта мысль созвучна идеям, высказанным К. Баллардом на примере возвращения рисунков Маклая на о-в Лелепа (Республика Вануату).
Заканчивая обзор «ревизионистских» работ о наследии Н.Н. Миклухо-Маклая, следует отметить, что многие идеи, высказанные как «новые» в русскоязычном пространстве, окажутся «исходными» и «традиционными» в англоязычном; а подлинно «новые» – А.Я. Массова о ревизии наших представлений о научности знаний в конце XIX в. и П.Л. Белкова о рисунках, а не тексте как основной форме научной работы Маклая – найдут подтверждение в трудах австралийских исследователей.
Статьи о Н.Н. Миклухо-Маклае на английском языке
Следует отметить, что своеобразным «золотым десятилетием» маклаеведения в англоязычном пространстве стали 1980-е гг. В 1984 г. была издана наиболее полная биография ученого на английском языке «Че- ловек с луны» Э. Вебстер [Webster, 1984], а на протяжении всего десятилетия в Сиднее четыре раза в год выходил «Информационный бюллетень общества Миклухо-Маклая в Австралии». В последующие годы количество публикаций невелико, однако в некоторых из них предлагаются концептуально новые подходы к изучению наследия ученого. Мы оставляем в стороне работы, где материалы Н.Н. Миклухо-Маклая служат своеобразным введением к теме, в частности, статью Э. Стрит о больницах [Street, 2016] и публикацию Д. Гэфни о гончарах округа Маданг [Gaffney, 2018].
Со второй половины 1990-х гг. в англоязычном пространстве регулярно появляются статьи, вводящие материалы Н.Н. Миклухо-Маклая в научный оборот. Преимущественно это работы, привязанные к отдельным местностям (Торресов пролив, Палау, Лелепа) и содержащие перевод текстов ученого, которые до этого времени издавались исключительно на русском языке. Интересно, что, начавшись с простого перевода русскоязычных статей (публикация Р. Парментье и Е. Копниной-Гейер), затем публикации сопровождались широкими историко-культурными комментариями (статья А. Шнукал), а позже материалы Н.Н. Миклухо-Маклая стали самостоятельным объектом исследования (статья К. Балларда). В качестве исключения мы остановимся на общей работе о Н.Н. Миклухо-Маклае, написанной Ш. Фитцпатрик, поскольку она по принципу подачи весьма схожа со статьей А. Шнукал.
В 1996 г. в издании «Исла: Журнал микронезийских исследований» вышел перевод русскоязычной статьи Н.Н. Миклухо-Маклая «Архипелаг Палау: заметки из поездки в Западную Микронезию и Северную Меланезию», сделанный аспиранткой университета Амстердама Е. Копниной-Гейер. Статья предваряется введением исследователя Микронезии Р. Парментье, в котором делаются чрезвычайно важные замечания о работе Н.Н. Миклухо-Маклая на о-ве Палау. Свою о сновную цель автор публикации видит в том, чтобы ввести материалы, изданные на русском языке, в научный оборот в англоязычной академической среде [Parmentier, Kopnina-Geyer, 1996, p. 72].
Не давая прямой оценки работе Н.Н. Миклухо-Маклая в Микронезии, Р. Парментье тем не менее отмечает: «К сожалению, исследования Н.Н. Миклухо-Маклая пришлись на время между периодами работы там таких гигантов, как Я.С. Кубари и А. Кремер» [Ibid., p. 75]. Противопоставление рядового «исследования» и работы «гигантов» указывает на то, что автор не очень высоко оценивает вклад русского ученого в изучение этого региона. Впрочем, абзацем позже Р. Парментье называет его одним из первых исследователей, старавшихся изучить «местный взгляд на обычаи» и применявших метод «рефлективной антропологии». Голландский ученый пишет о том, что Н.Н. Миклухо-Маклай предвосхитил антропологическую революцию Б. Малиновского [Ibid., p. 76]. Очень высокая оценка теоретической и методологической части исследования и непризнание эмпирической противоречит «традиционному» описанию наследия Н.Н. Миклухо-Маклая в отечественной этнографи-ческой/антропологической науке, где историографы превозносят эмпирическую часть и отказывают в значимости части теоретической.
В 1998 г. выходит работа австралийской исследовательницы А. Шнукал, в которой дается обзор направлений исследования Н.Н. Миклухо-Маклая на островах в Торресовом проливе. Напомним, что этот район является своеобразным местом «зарождения полевой этнографии»: кембриджская экспедиция в Торресов пролив считается точкой отсчета научных полевых этнографических исследований [Herle, 2012; Никишенков, 2006, с. 140–144]. Публикация разбита на несколько тематических разделов, в каждом из которых освещается один из аспектов деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая. В разделе «Эдвин Редлих и Джимми Каледония» приводятся сообщения русского ученого об обсуждении этими людьми возможно стей коммерческой добычи жемчуга в проливе. Следующий посвящен подсчетам численности населения небольшого о-ва Эруба (современное название Дарнли). В разделах «Краниальные деформации у островитян Торресова пролива» и «Биология мозга дюгоня» приводятся соответствующие материалы ученого. Следующий раздел почти полностью представлен переводом описания Н.Н. Миклухо-Маклаем добычи перламутра в Торресовом проливе.
Последний раздел заканчивается замечанием А. Шнукал: «Я была разочарована, найдя не новую информацию, на которую я надеялась, а выжимку из обстоятельного сообщения де Хогтона о рыболовстве» [Shnukal, 1998, p. 43]. Схожая мысль завершает и всю публикацию: «При том, что эта информация добавляет новые сведения и подтверждает существующий материал, в качестве источника для современного исследователя Торресова пролива записи Маклая не представляют особого интереса в плане новизны, качества и объема» [Ibid.]. Автор не характеризует методы работы ученого и не останавливается на его теоретических идеях, которые могут вытекать из локальных особенностей материала. Однако эмпирическая составляющая исследования Н.Н. Миклухо-Маклая оценивается так же невысоко, как и в предыдущем случае.
С публикацией А. Шнукал созвучна работа известной австралийской исследовательницы советской истории Ш. Фитцпатрик, вышедшая в 2012 г. Последняя также предлагает своеобразный веер из разно- образных интересов Н.Н. Миклухо-Маклая. Автор статьи насчитывает семь «ролей» или «идентичностей» ученого: путешественник, гуманист, толстовец, социалист, империалист, ученый и «белый папуас». Характеризуя внутренние противоречия этих ипостасей, она упоминает такой факт: Миклухо-Маклай «советовал Фердинанду фон Мюллеру, уроженцу Германии, директору мельбурнского ботанического сада, чтобы тот на предстоящей выставке использовал несколько аборигенов – “всего лишь по одному представителю мужского и женского пола, а также двух детей”», но не для развлечения публики, а для «того, чтобы сделать детальные текстовые описания и фотографии» [Fitzpatrick, 2012, p. 175–176]. Следует уточнить цитату по собственному тексту Н.Н. Миклухо-Маклая: «Доставление туда по одному ♂, ♀ и по двое детей из северной, южной, восточной, западной и центральной Австралии в качестве образчиков австралийской разновидности рода Homo представит огромный интерес для антрополога, а их подробное научное описание, сопровождаемое рядом фотографий, наверняка заполнило бы пробел в антропологии» [1996, с. 241]. Использование живых людей в качестве экспонатов, безусловно, противоречит идее гуманизма, вместе с тем русский естествоиспытатель объясняет, что это делается ради науки. Вновь перед нами факт, подобный тому, что приводил А.Я. Массов. Разрешить оба эти противоречия совсем не просто.
Последней работой, вводящей русскоязычные материалы Н.Н. Миклухо-Маклая в научный оборот англоязычного сообщества, является недавно вышедшая статья Е. Говор и С.К. Маникам «Русский в Малакке: Экспедиция Н.Н. Миклухо-Маклая на Малайский полуостров и ранние антропологические исследования оранг асли» [Govor, Manickam, 2014]. В ней дается обзор путешествий русского ученого по Меланезии и Малаккскому полуострову, а также его публикаций, преимущественно на немецком языке, о результатах работы. Авторы отмечают, что материалы Н.Н. Миклухо-Маклая трудно связать с какой-то определенной «антропологической традицией», вместе с тем его взгляд, нацеленный на поиск «меланезийского» в культуре и расовых особенностях жителей Малайского полуострова, представляет интересный ракурс, почти не встречавшийся в то время в антропологической и этнографической литературе. В статье дается перевод с научными комментариями наиболее значимых отрывков из дневниковых записей Н.Н. Миклухо-Маклая, сделанных во время путешествия по полуострову. В заключении авторы указывают, что материалы ученого имеют значение не столько для современного изучения оранг асли, сколько для истории взглядов на жителей Малайского полуострова. Кроме того, эти записи знакомят с их повседневной жизнью. Таким образом, Н.Н. Миклухо-Маклай оценивается не как теоретик или основатель нового направления в науке, а как один из путешественников, материалы которого также необходимо учитывать в добросовестных исследованиях.
Отдельно от других работ, основывающихся на материалах русского ученого, следует поставить статью К. Балларда «Возвращение истории: о рисовании и диалогической истории» [Ballard, 2013]. В ней развиваются идеи совместного с Е. Говор доклада, представленного на 18-й конференции по истории Тихоокеанского региона (Сува, Фиджи, 2008 г.). Основная идея состоит в том, что ключевым элементом в научном наследии Н.Н. Миклухо-Маклая являются его рисунки. Ученый работал в те годы, когда формировался сам канон этнографического или антропологического знания. Во многих культурах рисунки также являются знанием (англ. «knowledge»). Антропологическое сообщество долгое время недооценивало их значение как исследовательского метода. «Графический поворот» в антропологии, связанный с работами В. Ганн [Gunn, 2009], М. Кэнфилда [Field notes…, 2011], М. Тосига [Taussig, 2009] и других ученых, позволил иначе взглянуть на роль рисунков в полевых записях исследователей. Началась настоящая дискуссия о их важности и незаменимости. К. Баллард замечает: «Как бы уверенно чувствовал себя Миклухо-Маклай в этой дискуссии, полевой исследователь, рисунки которого стали не только основной стратегией его метода наблюдения, но и действенным способом вживания в сообщества, принимавшие его и исследуемые им» [Ballard, 2013, p. 140]. Переводя этот тезис в дискурс русскоязычной науки, можно сказать, что вопрос об отсутствии «opus magnum» Н.Н. Миклухо-Маклая связан с неспособностью современных этнографов и антропологов «прочитать» все им созданное.
Пример того, как можно читать рисунки Н.Н. Миклухо-Маклая, был предложен К. Баллардом на примере нескольких скетчей, сделанных на небольшом о-ве Лелепа, находящемся у побережья о-ва Эфате, на котором в настоящее время расположена столица Республики Вануату г. Порт-Вила. В конце XIX в. основным портом острова была гавань Хаванна, располагавшаяся как раз между островами Эфате, Мозо и Лелепа. Общины Лелепы и Мангалилью (часть той же общины, переселившаяся на о-в Эфате, напротив Лелепы, в XX в.), начиная с 2001 г. пытались включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «владения вождя Роя Мата», куда входят кладбище на о-ве Мозо, наскальные изображения в пещере Феле на о-ве Лелепа и историческое место расположения деревни вождя Роя Мата. Для включения последнего объекта в список Всемирного наследия требовалось наличие «памятников». С этой целью К. Баллард привез в общину Лелепы «отпечатки фотографий со стеклянных негативов, расшифровки дневников мис- сионеров, переводы французских архивных материалов и фотографии начала XX века предметов материальной культуры» [Ibid.]. Наиболее «оцененными» и «обсуждаемыми» стали именно рисунки русского ученого, которые содержали не только изображения предметов, но и детальные прорисовки орнаментов, а также местные названия их элементов. По сути дела, рисунки Н.Н. Миклухо-Маклая вернули общине Ле-лепы ее искусство резьбы по дереву, утраченное после уничтожения миссионерами щелевых барабанов, считавшихся ими идолами. В 2006 г. мастер резьбы по дереву Маньяру вырезал два щелевых барабана, которые были установлены во владениях Роя Мата. В 2008 г. эти владения были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Следует также отметить, что для К. Балларда был важен аспект «диалогичности» рисунков. Дело в том, что записи исследователя в поле не могут быть прочитаны исследуемыми. Он увозит домой что-то непонятное для туземцев, а возможно, и неправильное с точки зрения научной объективности. В случае с рисунками возможен диалог: если исследователь рисует что-то неверно, то местные жители могут указать на это и поправить его. Именно поэтому рисование – более уважительный способ исследования, вовлекающий исследуемых в работу ученых.
Выводы
Анализ упомянутых статей приводит нас к следующим выводам. Н.Н. Миклухо-Маклай был слишком неординарной личностью для своего времени. История его поездок в Новую Гвинею стала основой для мифов не только у папуасов, но и в русском и европейском сообществах того времени, а также в кругах современных ученых. Вспомним, что рецензент англоязычной монографии о Н.Н. Миклухо-Маклае Э. Чоунинг писала: «Не удивительно, особенно учитывая степень того, в какой мере Маклай мифологизировался членами как его собственного общества, так и папуасами, что Вебстер, пожалуй, слишком преувеличивает его провалы. Читая ее книгу, трудно понять, почему так много людей восхищались им и равнялись на него, и, наконец, почему его жена была так предана ему» [Chowning, 1986, p. 149]. Иными словами, помимо преданий папуасов о Маклае и советского мифа об ученом-гуманисте есть еще миф о Маклае-неудачнике, характерный для англоязычной литературы. Во времена Перестройки в СССР эта оценка некритично была привнесена в русскоязычное пространство. Иной подход заложил Дж. Стокинг, который назвал Н.Н. Миклухо-Маклая, Б. Малиновского и Я. Кубари «архетипами эпохи сновидений науки антропологии» [Stoсking, 1992]. Таким образом, ми- фологизация связана не только с советской культурной пропагандой, но и с тем, что ученый действовал до сложения канонов антропологической науки и фактически сам творил их. Изучение мифологизации его фигуры в различных сообществах может стать самостоятельной целью исследования, а сравнение ее векторов, возможно, позволит понять суть этого явления.
Суждение об отсутствии теоретиче ских основ в исследованиях и выводах Н.Н. Миклухо-Маклая является результатом процесса антимифологизации. Материалы ученого могут получить новое прочтение в рамках постмодернистских концепций. В первую очередь это касается рисунков как особого способа ведения диалога с жителями Океании, который, говоря языком современной социологии, гораздо более инклюзивен, чем интервьюирование и описание. В наше время, когда аудиовизуальная антропология, изучение саундскейпов и разного рода сензитивности становятся реальной альтернативой «текстовым переводам культуры», теоретическая значимость исследований Н.Н. Миклухо-Маклая может быть пересмотрена. Есть основания надеяться, что с опорой на современное знание визуальной антропологии наконец-то будет осуществлено издание иллюстрированного труда по этнологии меланезийцев, задуманного ученым.
Важно понять, кто должен писать тот самый, упоминаемый многими авторами портрет Н.Н. Миклухо-Маклая на фоне эпохи? А.Я. Массов считает, что это под силу только коллективу разнопрофильных специалистов. Его мнение представляется правильным с точки зрения эпистемологии, поскольку именно такая команда сможет разобраться в творчестве ученого и понять разные грани его интересов. Однако с позиции дидактики (в философском смысле) это не совсем верно. Н.Н. Миклухо-Маклай был цельной личностью. Понять, а главное передать это представление читателям может только группа ученых, объединенная похожим образованием и общим взглядом на науку. По нашему мнению, одним из наиболее перспективных подходов к изучению наследия Н.Н. Миклухо-Маклая является антропологический в рамках нескольких концепций. Культурная критика позволит сравнить публикации об ученом друг с другом, а также тексты о жителях Океании, написанные разными исследователями конца XIX в. Возвращение культурного достояния в общины, где проводились исследования, даст возможность вовлечь местных жителей в интерпретацию материалов ученого. Визуальная антропология позволит видеть в его наследии не только тексты, но и многочисленные рисунки. Историческая концепция даст возможность проследить эволюцию взглядов как самого ученого, так и антропологического сообщества в целом.
Список литературы Изучение наследия Н.Н. Миклухо-Маклая русско- и англоязычными исследователями в 1992-2017 годах
- Беликов В.И. Баллал-Маклай (‘Слово Маклая’) // Кунсткамера: вчера, сегодня, завтра. – СПб.: МАЭ РАН, 1997. – Т. 2. – С. 27–31.
- Бутинов Н.А. Воспоминания папуасов о Миклухо-Маклае по свидетельствам позднейших путешественников // Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. – М.; Л.: Наука, 1950. – Т. II. – С. 739–750.
- Иванова Л.А. Об экспонатах с Малаккского п-ова из коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая в МАЭ им. Петра Великого // Этногр. обозрение. – 1998. – № 4. – С. 100–110.
- Иванова Л.А. Проблемы источниковедения и атрибуции этнографической коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая из МАЭ (на примере «барабана» и «подставки» с о-ва Мангарева) // Этногр. обозрение. – 2000. – № 5. – С. 88–105.
- Комиссаров Б.Н. [Рецензия] // Новая и новейшая история. – 1998. – № 3. – С. 226–229. – Рец. на кн.: Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч.: в 6 т. – М.: Наука, 1996. – Т. 5: Письма. Документы и материалы. – 824 с.
- Комиссаров Б.Н. [Рецензия] // Антропологический форум. – 2013. – № 18. – C. 344–366. – Рец. на кн.: Тумаркин Д.Д. Белый папуас: Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи. – М.: Вост. лит., 2011. – 623 с.
- Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. И.З. Налётова. – М.: Прогресс, 1977. – 300 с.
- Массов А.Я. Неизвестный автограф Н.Н. Миклухо-Маклая // Этногр. обозрение. – 2013. – № 4. – С. 111–117.
- Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч.: в 6 т. – М.: Наука, 1996. – Т. 5: Письма. Документы и материалы. – 824 с.
- Никишенков А.А. История британской социальной антропологии. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006. – 496 с.
- Николаев В.П. [Рецензия] // Этногр. обозрение. – 2002. – № 1. – С. 163–168. – Рец. на кн.: Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч.: в 6 т. – М.: Наука, 1990–1999.
- Ревуненкова Е.В. Н.Н. Миклухо-Маклай об аборигенах и малайцах Малаккского полуострова // Этногр. обозрение. – 1994. – № 1. – С. 134–148.
- Соловей Т.Д. Николай Николаевич Миклухо-Маклай (история одной научной стратегии) // Прошлое и настоящее этнологических исследований: сб. науч. статей, посвящ. 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова / отв. ред. А.А. Никишенков. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2011. – С. 74–85.
- Станюкович М.В. Предисловие: Теория и внимание к деталям // Ревуненкова Е.В. Индонезия и Малайзия – перекресток культур. – СПб.: МАЭ РАН, 2010. – С. XI. Станюкович М.В. Полевые методы в экспедициях на Филиппины: общий язык и как с ним бороться // Методы и концепции в фольклористике и культурной антропологии (конец XX – начало XXI века): мат-лы XVI Междунар. школы-конф. по фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии. – М.: Рос. гос. гум. ун-т, 2016. – С. 71–73.
- Старое и новое в изучении этнографического наследия Н.Н. Миклухо-Маклая: очерки по историографии и источниковедению / отв. ред. и сост. П.Л. Белков. – СПб.: МАЭ РАН, 2014. – 252 c.
- Тумаркин Д.Д. «Вторая жизнь» Н.Н. Миклухо-Маклая: мифы и предания о русском ученом в Папуа – Новой Гвинее // Этногр. обозрение. – 1997. – № 1. – С. 158–169.
- Туторский А.В. Деятельность Рейнского миссионерского общества на Берегу Маклая в 1887–1914 гг. // Россия и АТР. – 2018. – № 3 (101) . – С. 193–208.
- Хаген Б. Воспоминания о Н.Н. Миклухо-Маклае у жителей залива Астролябия на Новой Гвинее // Землеведение. – 1903. – Кн. 2/3. – С. 245–252.
- Ballard C. The Return of the Past: On Drawing and Dialogic History // The Asia Pacifi c J. of Anthropology. – 2013. – Vol. 14, N 2. – P. 136–148.
- Chowning A. Review ed: Webster E.M., “The Moon Man: A Biography of Nikolai Miklouho-Maclay”. Melbourne: Melb. Univ. Press, 1984. XXV, 421 p. // New Zealand Slavonic J. – 1986. – P. 145–149.
- Field notes on science and nature / ed. M.R. Canfi eld. – Cambridge: Harvard Univ. Press, 2011. – 297 p.
- Fitzpatrick S. On the Trail of Nikolai Miklouho-Maclay: A Russian encounter with the antipodes // The Atlantic World in the Antipodes: Effects and Transformations since the Eighteenth Century. – Cambridge: Scholar Publishing, 2012. – P. 166–184.
- Gaffney D. Maintenance and Mutability amongst Specialist Potters on the Northeast Coast of New Guinea // Cambridge Archaeological J. – 2018. – Vol. 28, iss. 2 . – P. 181–204.
- Govor E., Manickam S.K. A Russian in Malaya: Nikolai Miklouho-Maclay’s expedition to the Malay Peninsula and the early anthropology of Orang Asli // Indonesia and the Malay World. – 2014. – Vol. 42, N 123. – P. 1–24.
- Gunn W. Making Fieldnotes and Sketchbooks: An Introduction // Fieldnotes and Sketchbooks: Challenging the Boundaries Between Descriptions and Processes of Describing. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. – P. 1–35.
- Hanke A. Die Sprachverhältnisse in der Astrolabe-Bai in Deutsch-Neuguinea // Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. – 1905. – Jg. VIII, Abt. I. – S. 255–262.
- Hanneman E.F. Concerning Maclay // Newsletter of the Miklouho-Maclay Society of Australia. Ser. 14. – 1983. – Vol. 4, N 2. – P. 7–10.
- Herle A. Creating the anthropological fi eld in the Pacifi c // The Atlantic World in the Antipodes: Effects and Transformations since the Eighteenth Century. – Cambridge: Scholar Publishing, 2012. – P. 184–218.
- Parmentier R.J., Kopnina-Geyer H. Mikloucho-Maclay in Palau, 1876 // ISLA: A Journal of Micronesian Studies. – 1996. – Vol. 4, N 1. – P. 71–108.
- Shnukal A. N.N. Miklouho-Maclay in Torres Strait // Australian Aboriginal Studies. – 1998. – N 2. – P. 35–49.
- Stocking G. Maclay, Kubary, Malinowski: archetypes from the dreamtime of anthropology // The Ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of Anthropology. – Madison: Univ. of Wisconsin Press. 1992. – P. 212–275.
- Street A. The Hospital and the Hospital: Infrastructure, human tissue, labour and the scientifi c production of relative value // Social Studies of Sciences. – 2016. – Vol. 46, iss. 6. – P. 938–960.
- Taussig M. What Do Drawings Want? // Culture, Theory and Critique. – 2009. – Vol. 50, iss. 2/3. – P. 263–274.
- Webster E.M. The Moon Man: A Biography of Nikolai Miklouho-Maclay. – Berkeley; Los Angeles; L.: Univ. Of California Press, 1984. – 421 p.