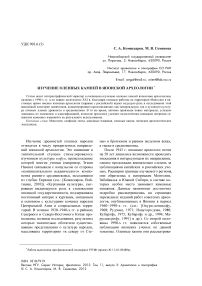Изучение оленных камней в японской археологии
Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Семенова Мария Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований
Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья носит историографический характер и посвящена изучению оленных камней японскими археологами, начиная с 1990-х гг. и по первое десятилетие XXI в. Благодаря полевым работам на территории Монголии в настоящее время именно японская археология (наравне с российской) играет ведущую роль в исследовании этой важнейшей категории памятников, концентрировано представляющих как материальную, так и духовную культуру кочевых племен древности и средневековья. В то же время, активно привлекая новые материалы, успешно занимаясь их описанием и классификацией, японские археологи уделяют недостаточное внимание вопросам семантики каменных изваяний и их ритуального использования.
Монголия, скифская эпоха, каменные изваяния, оленные камни, японские археологические экспедиции
Короткий адрес: https://sciup.org/14737780
IDR: 14737780 | УДК: 903.6
Текст научной статьи Изучение оленных камней в японской археологии
Изучение древностей степных народов относится к числу приоритетных направлений японской археологии. Это внимание в значительной степени стимулировалось изучением культуры кофун, происхождение которой многие ученые (например, Эгами Намио) связывали с импульсом со стороны «континентального всаднического» компонента раннего средневековья, исходившим из глубин Евразии (см.: [Комиссаров, Вой-тишек, 2010]). «Курганная культура», сыгравшая выдающуюся роль в становлении японской государственности, поддерживала постоянный интерес к курганам, связанным в основном с культурами кочевых народов Центральной Азии и сопредельных территорий. В течение 1930–1940-х гг. в районах Северного и Северо-Восточного Китая проводились полевые исследования, результаты которых значительно обогатили существовавшие представления о культуре народов, населявших территорию «к северу от Сте- ны» в бронзовом и раннем железном веках, а также в средневековье.
После 1945 г. японские археологи почти на 50 лет лишились возможности проводить изыскания в интересующем их направлении, однако продолжали внимательно следить за публикациями китайских и российских ученых. Расширив границы изучаемого региона, они обратились к материалам Монголии, Забайкалья и Южной Сибири, в составе которых особое место занимают каменные изваяния. Данные памятники достаточно подробно рассматривались на страницах переводных изданий работ советских археологов, опубликованных в Японии в период 1960–1990-х гг. (см.: [Окура:доникофу, 1968; Рудэнко, 1971; Новугоро:дова, 1980; Кубарэфу, 1975; Кубарэфу и др., 1994; Ма-русадо:рофу, 1991] и др.). Со второй половины 1990-х гг. появляются собственные публикации японских ученых по данной тематике. Оленные камни они рассматрива-
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00489а).
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 3: Археология и этнография © С. А. Комиссаров, М. В. Семенова, 2012
ли в более широком контексте развития монументальной скульптуры древности и средневековья, усматривая в них начальный этап традиции тюркских каменных баб (см., например: [Хаяси, 1996. С. 179–180]). Однако при этом датировались ими оленные камни раннескифской эпохой [Хатакэяма, 1996. С. 1]. Были изданы и обзорные работы по тюркским каменным изваяниям Синьцзяна, Монголии, Восточной Сибири, в которых особое внимание уделялось датировке памятников и семантике изображений (см., например: [Осава, 1992; 1995]).
В 1999 г. начала работу совместная японо-монгольская экспедиция, проводившая раскопки памятника Ушкийн увэр (в японской археологической литературе чаще называемого Улаан уушиг), открытого советско-монгольской археологической экспедицией и достаточно подробно освещенного в отечественной литературе [Волков, Новгородова, 1975]. Экспедиция продолжила свою работу в 2003–2006 гг. 1 В раскопках с японской стороны принимали участие такие известные исследователи, как Такаха-ма Сю (Университет Канадзава), Хаяси Тосио (Университет Сока), Кавамата Масанори (Университет Кокусикан), Мацубара Рюдзи (Университет Сэйдзё). До настоящего времени японские археологи не предложили единой датировки комплекса. В. Д. Кубарев и Т. Хаяси датировали памятник первой половиной I тыс. до н. э., отмечая невозможность проведения радиоуглеродного анализа [2010. С. 102]. Однако Такахама Сю в статье, опубликованной в том же году, сообщил о результатах радиоуглеродного анализа: с учетом калибровки оленные камни датируются XIV–IX вв. до н. э. и соотносятся с периодом Шан – Западное Чжоу в Китае [Takahama, 2010. С. 127]. Столь ранние даты вызывают законное сомнение и нуждаются в дополнительном обосновании.
При раскопках памятника Улаан уушиг I – сложного разновременного явления, включающего в себя оленные камни и херексуры, обнаружены новые изваяния и уточнены описания ряда скульптур, уже известных науке. Японские исследователи отмечают сходство керамики памятника с культурой плиточных могил Бурятии [Ягю, Таками, 2003. С. 3] (хотя в насыпях конструкций, пристроенных позднее, встречается также хуннуская и, возможно, древнетюркская керамика), а оленные камни относят к забайкальско-монгольскому типу. Однако оленный камень № 4 относится не к забайкальско-монгольскому типу, а к общему центрально-азиатскому. Он образует единый комплекс с херексуром № 1 и расположен недалеко от двух полукругов каменной оградки, с юго-восточной стороны; рядом найдены захороненные черепа и частично шейные позвонки лошади. Изваяние № 4 значительно отличается от прочих оленных камней памятника – для него характерна грубая необработанная поверхность, тонкая, едва различимая резьба, скупость изображений (только два круга – маленький и большой рядом с ним). По мнению японских ученых, находка обнаруживает черты сходства с памятниками Алтая, в частности, с оленными камнями плато Укок. Таким образом, камни двух разных типов включены в состав одного памятника, и, по всей видимости, использовались в одно время представителями одной культуры [Preliminary…, 2003. P. 6].
В 2004 г. экспедиция зафиксировала в Джаргаланте (сомон Индур улаан, аймак Архангай) плиточные могилы, в строительстве которых использовались многочисленные оленные камни; на одном из них отмечена фигура кошачьего хищника [Preliminary…, 2005. P. 13. Fig. 3, 4 ]. В том же аймаке выявлено два оленных камня, ранее не публиковавшихся. Первый из них высотой 200 см расположен одиночно, обращен на юго-запад; по предположению японских исследователей, он мог быть перемещен из другого места, скорее всего, из того же комплекса, где найден второй оленный камень. Высота последнего 202 см, расположен рядом с несколькими херексурами и перевернут вверх ногами, на поверхности отмечена тюркская χ-образная тамга. Японские археологи считают, что камень перевернули в тюркское время.
В 2005 г. японские исследователи посетили несколько памятников, оленные камни которых уже описаны в научной литературе, прежде всего, в трудах В. В. Волкова. В цели экспедиции входили уточнение описаний, эстампаж, а также поиск не описанных ра- нее изваяний. Из наиболее интересных находок следует отметить один перевернутый оленный камень центрально-азиатского типа (стилизованное изображение трех кругов, нет изображений животных) и два оленных камня, использованные в оградках могил тюркского времени. Вблизи горы Алтан-сандал (сомон Их Тамир, аймак Архангай) на небольшом расстоянии друг от друга обнаружены две тюркские статуи (высотой 145 и 60 см), на которых можно проследить более ранние изображения оленей и пояса. Они были высечены из единого оленного камня, что подчеркивало парность этих изображений [Preliminary…, 2008. P. 88–90]. Ранее аналогичная находка была сделана в Ондорхангай-сомоне аймака Увс. При создании тюркской статуи был использован оленный камень, причем безвестный художник сохранил ожерелье и символическое изображение лица на обратной стороне головы статуи [Хатакэяма, 1992. С. 216–217]. В 200 м от данного памятника найдены еще два изваяния высотой 78 и 88 см, уникальные по степени проработанности одежды и украшений; по заключению Хаяси Тосио [1996. С. 192], они выполнены из единого оленного камня; на большей фигуре сохранены ожерелье и черты лица предшествующей скульптуры.
Уже из используемой японскими археологами классификации оленных камней очевидно весьма неплохое знакомство японских ученых с трудами российских коллег. Большое внимание, разумеется, уделяется ими работе В. В. Волкова и Э. А. Новгоро-довой, впервые описавших памятник Уш-кийн увэр. Японские исследователи знакомы и с другими трудами этих авторов, а также с работами А. В. Варенова, С. В. Данилова, Л. А. Евтюховой, С. Г. Кляшторного, Д. Г. Савинова, Ю. С. Худякова, А. Д. Цы-биктарова. Особый интерес для японских исследователей представляют публикации, излагающие материал для изучения олен-ных камней Горного Алтая – им знакомы работы В. Д. Кубарева, Н. В. Полосьмак, А. С. Суразакова, Л. С. Марсадолова (отсылки к алтайскому материалу присутствуют в любой работе по теме). Стоит, однако, отметить, что по сравнению с данными по Монголии и Забайкалью, Алтай (в том числе и Синьцзянский) в меньшей степени освоен учеными из Японии; в их публикациях не достаточно учитываются результаты работы китайских и сибирских археологов за последние годы.
Большое внимание японские археологи уделяют изучению так называемых реалий, изображенных на статуях, равно как и инвентарю, найденному на памятниках, связанных с ними. Для этих предметов ищут возможные параллели с Китаем, что дает возможность обосновать датировку комплексов с оленными камнями. Так, при раскопках херексура № 12 был обнаружен железный кинжал длиной 16,7 см. Исследователи указывают на его сходство с железным кинжалом из могильника Маоцингоу во Внутренней Монголии и ищут аналоги среди бронзовых кинжалов Китая периода Чуньцю [Takahama et al., 2006. P. 68]. Хаято Кавабата [2010] изучил оленный камень из Ушкийн увэра с изображением человеческого лица и сравнил так называемый предмет неизвестного назначения («предмет в форме лука», по японской терминологии), изображенный у пояса, с аналогичными китайскими изделиями эпохи Инь и раннего Чжоу. Ученый предполагал, что именно предмет на оленном камне можно идентифицировать как крючок для вожжей, в то время как китайские находки по ряду параметров вызывают сомнения в возможности подобной трактовки. Т. Хатакэяма изучала оленные камни Синьцзяна, апеллируя к типологии оленных камней Алтая и Монголии, разработанной российской археологической наукой [Hatakeyama, 2002]. Исследовательница указывает, что в рамках одного памятника Шибаркуль встречаются оленные камни саяно-алтайского, забайкальско-монгольского и евразийского типов, а весь комплекс датируется ею VIII–VII вв. до н. э. и соотносится с первой половиной периода Чуньцю в Китае.
В целом, даже краткий обзор показывает, что изучение оленных камней, хотя и началось в японской историографии очень поздно, практически лишь в 1990-е гг., однако благодаря интенсивности поиска на данном направлении были достигнуты значительные успехи. Этому способствовало начало полевых исследований на территории Монголии, что позволило пополнять источнико-вую базу новыми данными (за счет проведенных раскопок и уточнения прежних сведений). Можно констатировать, что в настоящее время именно японская археология (наравне с российской) играет ведущую роль в изучении этой важнейшей категории памятников, концентрировано представляющих как материальную, так и духовную культуру кочевых племен древности и средневековья. В то же время, активно привлекая новые материалы, успешно занимаясь их описанием, сопоставлением и классификацией, японские археологи пока уделяют недостаточное внимание вопросам семантики каменных изваяний и их ритуального использования.