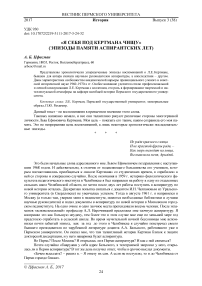"Я себя под Кертмана чищу" (эпизоды памяти аспирантских лет)
Автор: Цфасман А.Б.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Статья в выпуске: 3 (38), 2017 года.
Бесплатный доступ
Представлены хронологически упорядоченные эпизоды воспоминаний о Л.Е. Кертмане, бывшем для автора сначала научным руководителем аспирантуры, а впоследствии - другом. Даны характеристики особенностям академической карьеры провинциального ученого в советской исторической науке 1960-1970-х гг. Особое внимание уделяется стилю профессиональной и личной коммуникации Л.Е. Кертмана с коллегами, его роль в формировании творческой и интеллектуальной атмосферы на кафедре всеобщей истории Пермского государственного университета.
Л.е. кертман, пермский государственный университет, мемориальные образы, п.ю. рахшмир
Короткий адрес: https://sciup.org/147203813
IDR: 147203813 | УДК: 930 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-3-24-32
Текст научной статьи "Я себя под Кертмана чищу" (эпизоды памяти аспирантских лет)
Данный текст – не воспоминания в привычном значении этого слова.
Таковых написано немало, и все они талантливо рисуют различные стороны многогранной личности Льва Ефимовича Кертмана. Моя цель – показать его таким, каким сохранила его моя память. Это не непрерывная цепь воспоминаний, а лишь некоторые хронологически последовательные эпизоды.
* * *
Не ради красного словца
И не красивой фразы ради, – Как зверь выходит на ловца, Вы вышли на меня, Аркадий.
Но Пермь? После Москвы? И открылась ли в Перми аспирантура? И как с ней связаться?
Почти случайно обнаружив у себя адрес Бельского, я телеграммой запросил у него, открылась ли в Перми аспирантура? В тот же день получил ответ, чтобы я срочно выслал документы.
«Зачем высылать? – решил я. – Я отвезу их сам. А если не поступлю, то и до Челябинска от Перми гораздо ближе».
В дороге мне, казалось бы, демонстративно «не везло»: вагон №13, место №13... После Москвы Пермь мне откровенно не понравилась, здание университета показалось мне тяжелым и угрюмым, нелепо расположенным возле железнодорожной насыпи.
Настроенный фаталистически («не поступлю – так не поступлю»), я без особых усилий и волнений сдал на «отлично» вступительные экзамены по немецкому языку и истории КПСС. Экзамен же по специальности (по новой и новейшей истории) откладывался – говорили, что Л.Е. Керт-ман в Москве (как я узнал позднее, он завершал свой школьный учебник по новой истории, ч. II). Меня все более разбирало любопытство – какой он, Кертман? Отзывы о нем я получал самые хорошие.
Наконец, наступил день первой встречи, он же и день экзамена... Меня встретил, стоя возле своего стола на тогдашней кафедре всеобщей истории, мужчина средних лет, среднего роста и среднего телосложения, с гладко зачесанными назад негустыми темными волосами; он внимательно, но недолго всматривался в меня, затем продиктовал экзаменационные вопросы. Помню, один из них был из истории Англии. Мои любимые вопросы по Германии достались Гале Алпатовой. Слушал он меня внимательно, спрашивая, как бы вступал со мной в беседу. Я чувствовал, что не очень «тяну». Оценка за экзамен – «хорошо».
Затем Лев Ефимович, пригласив нас сесть, спросил у присутствовавшего на экзамене доцента К.И. Ларькиной мнение обо мне: принимать или не принимать. Мудрая Клара Ивановна, хорошо понимавшая Льва Ефимовича, в своей категоричной манере ответила, как мне помнится, следующее: «Принимать. Иначе останутся одни девки». (Имелись в виду Г. Алпатова и С., выпускница МГУ, уже сдавшая экзамен.) Чувствовалось, что такого рода ответа и ждал от нее Лев Ефимович.
Так волей обстоятельств я «вышел» на Л.Е. Кертмана, а точнее, Счастливая судьба «вывела» меня на него.
* * *
1 ноября 1961 г. я стал аспирантом Л.Е. Кертмана.
Спустя какое-то время я заговорил с ним о теме диссертации. Лев Ефимович спросил, не хочу ли я заняться историей Англии? Я ответил, что изучение английского языка может занять очень много времени, и я не успею с диссертацией. Он не стал настаивать и предложил мне самому подумать о теме.
Через несколько дней я предложил ряд тем. Он одобрил тему «Франц Меринг как историк». Я начал «вчитываться» в нее.
Лев Ефимович как бы «прощупывал» меня. Как-то поинтересовался, читал ли я Кафку, Пруста, Джойса? Я удивляюсь ему: историк, а читал этих «сложных» авторов! В другой раз спросил, вновь имея в виду философскую часть моего высшего образования, не хочу ли участвовать в сочинении стихотворного текста к вечеру политсатиры? Я решительно открестился от стихотворчества. Каково же было мое удивление, когда на вечере политсатиры в исполнении студентов я услышал очень приличные стихотворные тексты Льва Ефимовича!
Вхожу на кафедру. Лаборантки Люба Сонина и Вера Лисина радостно вручают мне молоток и гвозди: надо прибить к стене доску объявлений. Я с уверенным видом берусь за дело: мол, не впервой. Но гвозди гнутся один за другим. Вошел Лев Ефимович, видит это, говорит, что надо вначале проделать углубление шлямбуром. Я не знаю, что это такое. Тогда он откуда-то достал незнакомое мне приспособление (короткую трубку, с одной стороны имеющую зубцы), снял пиджак, засучил рукава сорочки и, ловко орудуя молотком и шлямбуром, проделал в толстой стене аккуратное углубление. Чтобы я не так сильно чувствовал посрамление, он поручил мне заполнить углубление деревянной пробкой и забить гвоздь.
Я начал погружаться в тему о Меринге. Неожиданно встретил в одном историческом журнале ГДР информацию о недавно вышедшей книге, повторяющей название моей диссертации. Огорченный, иду на кафедру. Лев Ефимович – за своим столом. Выслушав меня, говорит, что это даже хорошо: было бы хуже, если бы немецкая книга вышла перед защитой. И предлагает выбрать такую тему, которая, наверняка оставалась бы моей. У меня, разумеется, никаких предложений нет. Он ненадолго задумался. Потом произнес фразу, интонацию и содержание которой я запомнил на всю жизнь: «Аркадий, а почему бы Вам не заняться политической историей Германии накануне Первой мировой войны? Спокойный период Бетман-Гольвега может таить в себе много интересного». Я соглашаюсь, хотя и без большой радости.
Ранняя весна 1962 г. Лев Ефимович в первый раз пригласил меня к себе домой на беседу. Вхожу в подъезд огромного дома на Комсомольском проспекте. На высокий этаж поднимаюсь пешком. Робко звоню в дверь. На пороге – Он. Радушно приглашает войти.
Осторожно иду по паркету в кабинет. Предлагает сесть на стул у большого письменного стола. Сам – напротив в глубоком кресле. Начинает непринужденный разговор. Выясняет, как вхожу в тему. Вижу, не очень доволен. Пытаюсь оправдаться сложностями общежитского быта. Его это не убеждает. Рассказал о том, как в годы войны в Казани в крохотной комнатке по ночам за несколько месяцев подготовил кандидатскую диссертацию. Я начал его расспрашивать о Тарле. Он охотно рассказал, как еще до войны к знаменитому академику попала его студенческая работа и как тот ее умело перекомпоновал, как складывались его отношения с Тарле во время эвакуации. На мой вопрос, где правильно ставить ударение в его фамилии, Лев Ефимович ответил, что Тарле – не француз. Вернулись к моей теме. Лев Ефимович рекомендовал мне обратить внимание на богатые фонды русских дореволюционных журналов, которые хранятся в Пермской публичной библиотеке, а также на возможности извлекать свежие идеи из выходивших томов Полного собрания сочинений Ленина. На прощание он снабдил меня несколькими увесистыми немецкими книгами по истории.
Весна 1962 г. Преподавателей и аспирантов исторического факультета направили в порядке шефской помощи на Краснокамский завод для проведения лекций и бесед на международные темы. Вместе с нами Лев Ефимович, веселый и общительный. Приехали. Я выбрал тему «Берлинский кризис». Уверенный в своих силах, я повторяю ему официальную версию о том, что после возведения Берлинской стены кризис нашел свое разрешение. Он лишь негромко бросил: «Смотря для кого?»
Поздняя весна 1962 г. Кандидатские экзамены по философии и немецкому языку сдал на «отлично». Чувствую, что Лев Ефимович знает об этом, но молчит. На заседании кафедры говорит, что три года аспирантуры – это слишком много времени для подготовки кандидатской диссертации. Аспирантам надо передавать часть нагрузки тех преподавателей, которые завершают свои диссертации. Поэтому, продолжает он, Аркадию поручается прочитать несколько лекций, провести семинары и принять экзамены по новейшей истории на заочном отделении вместо Ю.М. Рекки.
Сентябрь 1962 г. После каникул, проведенных в Челябинске, вернулся в Пермь. На душе тревожно: знакомый аспирант из Свердловска за первый год уже написал одну главу диссертации (по истории КПСС), а я – ни строчки.
Первая командировка в Москву. Мечусь между библиотеками, хватаюсь то за русскую дореволюционную прессу, то за немецкие газеты, то за немецкие монографии. Возле докторского зала Ленинской библиотеки встретил Льва Ефимовича. Он увидел мою растерянность и посоветовал сосредоточиться на событиях 1909 года, начинать собирать материалы немецкой прессы, а монографии, составив картотеку, выписывать в Пермь по межбиблиотечному абонементу.
Октябрь 1962 г. Вернулся в Пермь. Размышляю над темой. Ее нижний хронологический рубеж – 1909 г., время смены канцлеров – Бюлова на Бетман-Гольвета. Отставка Бюлова – следствие распада созданного им консервативно-либерального блока. Но почему он распался? Размышления над этим влекут меня к его созданию. Значит, исследование надо начинать не с 1909 г., а с рубежа 1906 к 1907годов. Но согласится ли с этим Лев Ефимович? Иду к нему. К моему удивлению, он легко соглашается. И обращает мое внимание на то, что взаимоотношения в среде господствующих классов следует рассматривать с учетом влияния на их политику рабочего движения. Рекомендует прочитать свою статью «Рабочее движение и политика английской буржуазии в 1906–1914 гг.»
Тема меня все более увлекает. Попросился в командировку в Москву. Отказал, сказал, что прежде всего надо использовать все материалы Пермской публичной библиотеки, на их основе со- ставить подробный реферат. Засел за изучение русских дореволюционных журналов. И, хотя меня соблазняют многие художественные произведения, отдаю приоритет «иностранным обозрениям» и статьям, рисующим отдельные стороны жизни Германии. Особенно интересными мне кажутся статьи за подписью «В. Майский».
Очередная встреча у Льва Ефимовича дома. Беседа нетороплива и довольно продолжительна. Я заговорил с ним о дореволюционном Майском. Он охотно поддержал разговор и рассказал о том, как Майский помог перевести его докторскую диссертацию из совета МГУ, где она без движения лежала несколько лет, в ЛГУ и сам весьма благожелательно выступил в качестве официального оппонента. (В 1984 г. мне довелось иметь несколько бесед с престарелым И.С. Галкиным, который в послевоенные десятилетия возглавлял кафедру новой и новейшей истории и совет по защите диссертаций в МГУ. Я спросил у него, почему докторскую диссертацию Л.Е. Кертмана так долго не выпускали на защиту? Он ответил, что для этой диссертации еще не настало время, а на кафедре у нее имелись влиятельные враги. Когда об этом разговоре я рассказал Льву Ефимовичу, на его лице выразилось сомнение в искренности старого профессора.)
С осени 1962 г. нас, аспирантов, стало гораздо больше. С заочного отделения на очное переведена Галя Алпатова. Приняты в аспирантуру Леня Малинский, Миша Штабский, Вера Лисина. Быстро сошелся с Малинским, Штабским, Алпатовой – часто общаемся в библиотеках, вечерами – в общежитии, преимущественно в комнате, в которой живу я. Тем для разговоров – множество. Мотор обсуждений – Леня Малинский: именно он обращает наше внимание на интересные статьи в философских, исторических и литературных журналах. В поле нашего особого интереса – полемика между журналами «Октябрь» и «Новый мир». Наши абсолютные симпатии на стороне «Нового мира», его главного редактора А. Твардовского, автора литературно-критических статей В. Лакшина. С восхищением воспринимаем каждую появившуюся в «Новом мире» главу из мемуаров И. Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь». Из рук в руки передается номер этого журнала с повестью А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Наши суждения становятся все более смелыми. Лев Ефимович, вернувшись с всесоюзного совещания историков, сказал на кафедре, что в исторической науке воцаряется небывалая свобода.
Все чаще в нашем кругу слышны ссылки на его мнение, на его аргументы. И называем мы его за глаза уже не «Лев Ефимович», а коротко «Шеф». Мы стараемся посещать все мероприятия, на которых он выступает: заседания советов, защиты диссертаций, теоретические доклады… Не говоря уже о заседаниях кафедры, во время которых он, кажется, просто «сорит» идеями. Мы же стараемся их «ловить» и «подбирать». А вечерами при встречах с наслаждением повторяем: «Шеф сказал то-то…», «Шеф сказал это…» Он импонирует нам всеми действиями, всем обликом… Мы влюблены в него…
Я чувствую в себе возрастание интереса к теме. Почти целиком занят русскими журналами. С трудом отрываю или отвлекаю себя от разделов литературы – знакомых или малознакомых имен поэтов, писателей, критиков…
Очерки о положении дел в Германии (а были еще и интересные очерки об Англии, на которые ссылался Лев Ефимович в своей книге, о Франции, об Италии и др.) позволяют «погрузиться» в каждодневную жизнь этой страны. Мне уже неплохо знакома политическая жизнь Германии – крупнейшие партии, их политические лидеры. Я знаю их жизненный и политический путь, представляю их облик…. Мне уже знаком быт немецкого горожанина, рабочего. Я даже знаю, сколько выпивает пива и съедает сосисок рабочий в пивной, возвращаясь со смены домой. (Я, советский аспирант, такое себе позволить не могу.)
Мои рассказы Льву Ефимовичу о политике и быте Германии становятся все увереннее. Мы оживленно беседуем. Нередко я слышу его очень приятный смешок. Мне с ним уже не боязно, и я чувствую с ним себя не так напряженно, как прежде, а хорошо и свободно. И говорить можем не только о «теме», но и о политике, о литературе, о кино.
Январь или начало февраля 1963 г. Обсуждение моего реферата в германской группе кафедры. Главным специалистом по германской проблематике считается К.И. Ларькина. Профиль ее знаний и интересов – история германской социал-демократии. Ее претензии к реферату – недостаточное внимание к деятельности социал-демократической партии. Пытаюсь, по примеру Льва Ефимовича, деликатно возражать. Внутренне чувствую, что он на моей стороне. После обсуждения сообщает, что я к командировке «созрел», срок – до 30 дней, последовательно в Москву и Ленинград. Удостоверяется, какие материалы намерен добирать. Замечает, что интересные сведения и оценки можно почерпнуть из архивов, которые содержат документы русских дипломатических представительств в Германии. Дает адреса архивов и обращает внимание на особенности режима их работы.
Прошел месяц. Я вновь с ним за тем же столом. Уверенно рассказываю о том, в каких библиотеках Москвы или Ленинграда удалось разыскать подшивки тех или иных газет, в каких – стенографические протоколы о заседаниях германского рейхстага или прусского ландтага и другие источники. Меня распирает довольство: успел сделать все, что намечали. А намечали много, даже очень много. Вижу, чувствую – и Шеф доволен: разговаривает как-то мягче, с дружеским подтруниванием.
Но финал разговора – серьезный. Во-первых, предстоит с ходу читать курс лекций по истории Германии студентам–вечерникам романо-германского отделения филологического факультета (где декан – А.А. Бельский). Во-вторых, к началу лета необходимо подготовить статью по теме диссертации: предстоит выпуск двух сборников научных трудов по английскому и германскому рабочему движению.
Приходит осознание: не отдых после командировки, а не менее стремительный темп работы.
Я все более убеждаюсь, что во мне «мало Кертмана»: я не был его студентом, не слушал его лекции, не прошел через его семинары и спецсеминары. Мне нравится образ его мышления, логика его рассуждений, и я хочу проникнуться ими. Я купил и читаю его книгу об английском рабочем движении, прочитал его статьи в «Вопросах истории». На заседании кафедры он объявил, что начинает читать лекции по новейшей истории стран Запада по проблемно-хронологическому принципу (вместо общепринятого страноведческого). Несмотря на острый дефицит времени, я решил посещать этот курс, две первые пары в неделю. Уже начало курса показало мне, что есть другой мир истории – не суммы историй отдельных стран, а действительно всеобщей истории, где действуют общие закономерности и вместе с тем проявляются национальные особенности, которые имеют свое объяснение. Завораживает манера чтения лекции – не «читает», а говорит, но говорит так, что доминирует мысль, которая ведет за собой... И дикция, с этим мягким «ц» и приглушенным «л»….
Делюсь восторгами с Малинским и Алпатовой, Леня не только посещает лекции, но и очень умело конспектирует их. (Позже его конспекты мы отдали перепечатать, а экземпляры поделили. Когда об этом я рассказал Льву Ефимовичу, он неожиданно для меня рассердился: мол, как мы могли распоряжаться его авторским правом. Но быстро отошел, сказав: «Ладно, пользуйтесь». Я же, оказавшись после аспирантуры вдали от него и приступив к чтению курса новейшей истории стран Запада, также строил его по проблемно-хронологическому принципу).
Моя главная цель – статья. Но у меня нет опыта: как ее писать? Я ведь не прошел через университет с его ежегодными курсовыми и выпускной дипломной работами. И в каком стиле мне нужно ее писать? Вновь «погружаюсь в Кертмана»: перечитываю его статьи, заглядываю в его книгу. Его аргументация убедительна, стиль строгий и изящный. Надо пытаться следовать им.
Ритм моей жизни целиком подчинен статье. С утра (или после лекции Льва Ефимовича) еду в библиотеку, прихватив папку с материалами, подготовленными с вечера. Там – весь день. И так вся неделя, кроме того дня, когда у меня вечерняя лекция.
Недели уходят одна за другой. Лев Ефимович иногда, когда вместе уходим с его лекции, спрашивает: «Как статья?». Обычно отвечаю: «Пишу». Вопросы – все чаще. На душе – все тревожнее. Но ускорить не могу. Материал убывает медленно, а стопка исписанных мною листов уверенно толстеет. Какой должен быть объем статьи, не знаю…
Проходит месяц. Еще один. Пошел третий. Наконец, Лев Ефимович назначает крайний срок. Я форсирую. И когда остались считанные дни, неожиданно приезжает двоюродный брат: в Перми начинается его круиз по Каме и Волге. Ночь спим в моей общежитской кровати. Вторую спать не пришлось: завершал статью – писал важную для меня вводную часть к ней.
Закончил. Собрал и сложил рукописные листы. Получилась солидная стопка. Вложил ее в папку, на которой крупно было напечатано «Дело». Подумав, дописал: «о содеянном князем Бюловом консервативно-либеральном блоке и о крахе оного начинания». Отдал до начала лекции. Лев Ефимович глянул, усмехнулся. А я вдруг почувствовал: ярмо – с плеч, хотя бы на время. Ибо был уверен: предстоит немало дорабатывать.
Минула неделя или чуть более. Идем вместе с его лекции. И он как-то игриво, с неповторимой интонацией говорит: «Аркадий, а я читаю Вашу статью». Отвечаю, а на душе тревога: «Я Вам сочувствую, Лев Ефимович» – имея в виду и большой объем статьи, и ее неважное качество, и мой почерк. А он, вдруг сменив интонацию на серьезную, неожиданно для меня сказал: «А знаете, пока неплохо».
День начался, как праздник.
Продолжаем встречаться. От встречи к встрече чувствую: статья ему нравится.
Наконец, состоялся обстоятельный разговор у него дома, за тем столом. Перебирает листы статьи, вижу – на полях нечастые пометки его мелким почерком. На большинстве не останавливается, очевидно, незначительные замечания. Но есть и целые предложения. Здесь он поднимает глаза на меня и объясняет свою мысль. Есть новые для меня мысли, например, о сути неолиберализма и его отличии от либерализма классического. Или о новых чертах консерватизма. Статью в целом одобряет, однако хвалит сдержанно. Но я и сам не ждал большего. Стали думать о ее названии. Лев Ефимович предлагает такое – ведь сборник посвящен рабочему движению: «Влияние рабочего движения на борьбу в лагере господствующих классов Германии в период бюловского блока». В завершение сказал, что после исправления замечаний статью можно печатать. Но не всю, без последней части – о развале блока, иначе она слишком большая.
В машинописном виде статья без последней части вышла в сто пятьдесят страниц. (Плюс много страниц примечаний, которые я вечерами печатал на машинках романо–германского факультета.)
Представляя ее на заседании кафедры в германский сборник, Лев Ефимович похвалил ее, назвал небольшой монографией и неожиданно для меня сказал, что это – половина диссертации. Напомнив о филологической части моего образования, он поручил мне откорректировать, а где нужно – отредактировать сборник. С чувством, что за второй год аспирантуры мне удалось сделать что-то значительное, я уезжаю на короткие каникулы в Челябинск.
По возвращении в Пермь застал вышедший из печати сборник «Вопросы истории международного рабочего движения» (вып.2). Моя статья заняла половину сборника. Коллеги–аспиранты, в том числе Леня Малинский, мнение которого я очень ценю, хвалят ее.
Как-то иначе, как к более «взрослому», относится и Лев Ефимович.
Продолжаю, хотя не в прежнем темпе, работать: за год надо сделать вторую часть диссертации.
Осенью съездил в Москву, собрал новые материалы.
На кафедре – большое событие: первая защита диссертации. Главный герой – Павел Рах-шмир. Первым оппонентом Лев Ефимович пригласил А.Л. Нарочницкого, недавно ставшего главным редактором журнала «Новая и новейшая история». После заседания совет по защите и члены кафедры переместились в хлебосольный дом Рахшмиров. Прежде чем сесть за стол, Лев Ефимович подводит меня к Нарочницкому, представляет и говорит, что следующая защита – моя. Внимательный взгляд сквозь пенсне, вижу – узнал. А у меня промелькнула мысль: « Как хорошо, что я тогда к тебе не поступил!»
Мне кажется, Лев Ефимович стал ко мне доверительней. В беседах часто выходит за пределы научной темы и сам как бы располагает к моим расспросам. Спрашиваю однажды, как он и круг его двадцатилетних друзей воспринимал репрессии 1937 г.? – «Первоначально как наступление Терми- дора». – О первых неделях войны? – «Был сплошной беспорядок, единственно разумное, что было, – пулеметы на платформах автомашин. Примчимся на участок фронта, построчим, создадим видимость активности и – в другое место». На мой восторг по поводу публиковавшихся в «Новом мире» глав из книги И. Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» отзывается спокойнее; я чувствовал, что что-то разделяло его с писателем. Вместе с тем обратил внимание на его поэзию… Как-то речь зашла о Науме Коржавине, которого он знал по послевоенным киевским годам. Лев Ефимович признал, что стихи его не очень понравились, как и его странная манера поведения (от него я узнал и о подлинной фамилии поэта – Мандель). Несколько раз я слышал от него строки из песен Б.Окуджавы. И многократно – с шуточной интонацией – из тогдашних популярных песен («Жил да был черный кот за углом…», «Оранжевое небо…» и др.). Однажды, когда вместе шли из университета, он заговорил о романе К.Симонова «Живые и мертвые», о том, в какой мере отразилась в нем правда о войне; меня удивило, что профессиональный историк обратил мое внимание на язык романа, который от начала к концу становился все более емким и образным.
Вообще удивляет огромная начитанность Льва Ефимовича – и историческая, и общекультурная.
Весна 1964 г., середина третьего года аспирантуры. Продолжаю довольно плотно заниматься диссертацией. Это обговоренная ранее новая верхняя хронологическая граница – выборы в рейхстаг 1912 г. – кажется мне не очень убедительной. Возникла мысль: а не положить ли в основу диссертации бюловский блок от создания до распада? Вполне самостоятельный сюжет. Подсчитал примерный объем: вместе с вводной главой, в которую включены обстоятельные историографическая и источниковедческая части, и развернутым заключением может получиться не менее трехсот страниц, т.е. вполне достаточно. Но как убедить Шефа? Четко выстраиваю в уме аргументы, набрался серьезности, прихожу на кафедру и сажусь, как обычно, у окна напротив него. Говорю, что пришел с идеей. Он в шутливо-ироничной манере тут же реагирует: мол, идея – это такая редкость, готов немедленно выслушать. Последовательно излагаю все мои аргументы. Он не перебивает, внимательно слушает. Я закончил. Он немного задумался, потом бросает на меня лукавый взгляд, но как бы всерьез спрашивает: «А кто из нас будет защищать эту диссертацию?» – отвечаю, заметив его интонацию: «Намерен я». Он, почти без паузы: «В таком случае, будь по-Вашему».
Диссертация одобрена на кафедре и рекомендована к защите. Но как быть с оппонентами? Лев Ефимович берет два экземпляра с собой в Москву на какое–то совещание заведующих кафедрами. По возвращении говорит мне, что удалось «всучить» по экземпляру в руки профессору из Черновицкого университета и доценту из Тюменского пединститута. День защиты зависит от их возможности съехаться в Пермь. Видя, что я несколько огорчен, говорит утешительно, что для сильной диссертации он считает достаточным приглашать слабых оппонентов. Тут же парирую, что у Павлика (Рахшмира) и сильная диссертация, и сильные оппоненты. Он, как бы радуясь, что быстро нашелся с ответом: «Но ведь Павлик – первый!»
(24 мая 1979 г., после того как мне удалось защитить докторскую диссертацию в Минске, я дал ему телеграмму: «Дорогой Лев Ефимович, чур, я у Вас второй!»)
Срок аспирантуры истек.
Не дождавшись назначения дня защиты, уезжаю в Челябинск, где я принят на работу ассистентом кафедры всеобщей истории пединститута.
После недель ожиданий, казавшихся мне очень долгими, узнаю, что защита назначена на 5 марта. Хорошенький признак! Мало того, что меня угораздило родиться в день рождения Сталина, так и день защиты выпал на день его смерти – 5 марта 1965 г. Приближается время защиты. Постепенно заполняется зал заседаний совета (в старом корпусе). Вижу Льва Ефимовича, он, как обычно, с кем-то оживленно общается. Пришли оба оппонента. Вдруг один из них, холеный профессор, просит, чтобы я отвел его в туалет. Куда вести: в грязный туалет в подвале? Узкими извилистыми коридорами веду его в ректорский. Возвращаемся. Председатель совета, призывая членов совета занять свои места, выговаривает мне за опоздание. Ничего себе начало, думаю я…. Очевидно, заметив мое смущение, Лев Ефимович проходит мимо меня и иронически–ободряюще бросает:
«Memento Mori!» Спустя короткое время, почти пробегая в обратном направлении, тихо, но внятно сказал: «Имейте в виду, люди настроены на бикицер» (идишское слово, означающее «покороче», «побыстрее»). Следую этому совету. Мое вводное выступление длится чуть больше десяти минут. Да и ответы оппонентам не затягиваю. Совет ведет себя не очень активно.
… Защита завершена. Следует официальное – поздравление председателя совета. Затем вижу перед собой Льва Ефимовича, чувствую его пожимающую руку. В ответ на его поздравления, смущенный, говорю ему: «А я поздравляю Вас с защитой первого аспиранта». (После получения диплома я подарил ему индийскую фигурку, на которой было выгравировано по-английски, что это «от первенца».)
…Банкет в ресторане на ул. К. Маркса. Собралось десятка три гостей: ректор, члены совета, преподаватели исторического факультета, коллеги-аспиранты, друзья-приятели…
Ведет застолье Лев Ефимович – ненавязчиво, остроумно, интеллигентно. (Не встречал, чтобы кто-то вел застолья как он.) Много говорили, говорили, много поздравляли, много шутили. Мне же хотелось высказать свои главные мысли и чувства. И я встал и сказал. Я сказал о том, с каким трудом давалось Льву Ефимовичу «вышлифовывать» из меня кандидата наук, как я учился у него вузовскому преподаванию, каким недосягаемым образцом был и остается он в нравственном, человеческом отношении; я говорил, что хочется тянуться за его уровнем, быть как можно больше похожим на него… И закончил словами: « Я себя под Кертмана чищу ».
….Так завершилось мое фактическое аспирантское время.
* * *
….Я никогда не считал себя лучше, способнее своих сверстников-аспирантов. Но строчки из того стихотворного поздравления впечатались в память на всю жизнь:
Мне вся приятна Ваша стать.
Забыв все сроки и заботы, -
Как Вы умели сачковать!
Как научились Вы работать!.
* * *
После аспирантуры мы многократно переписывались, перезванивались, встречались в Перми, в Москве, в других городах. Меня всегда тянуло к нему.
…Последняя встреча состоялась в конце мая 1987 г. Я был в Перми в роли председателя ГАК на заочном отделении исторического факультета университета. Узнав, что я уезжаю в ближайшие дни, Лев Ефимович пригласил меня к себе домой. Как-то так получилось, что пришли мы вчетвером: кроме нас были Галя Алпатова и Леня Малинский. Никого в квартире не было. Мы собрали стол из того скудного, что удалось купить в магазине, и того, что было дома. Лев Ефимович выглядел серьезным и грустнее обычного. Таким я его прежде не видел. Разговор из светского быстро перешел в научно-политический: на дворе уже дышала перестройка. Затем он перерос в спор между Леней и Львом Ефимовичем о классовых оценках явлений истории и политики. Малинский говорил в своей темпераментной манере, Лев Ефимович – спокойно и рассудительно. Разошлись заполночь. Леня, провожая меня до гостиницы, всю дорогу твердил: «А шеф стал либералом…» Я молчал: возражать было бесполезно, раз Лев Ефимович не смог переубедить его.
Назавтра еще до восьми часов утра я зашел на кафедру. Лев Ефимович был уже там. Стоял недалеко от первого окна. Я впервые увидел его таким уставшим. Первое, что он спросил: «Ну, как Вам вчера Леня?» Вопрос застал меня врасплох. Я ответил: «Он был бы в Риме Прут, в Афинах Периклес…». «А здесь он офицер гусарский?» – полувопросительно закончил он и отвернулся к окну.
Через несколько минут мы расстались.
…Следующая встреча была уже на его похоронах. В последний раз я видел это знакомое до мелких черт лицо, этот гигантский лоб, под которым навсегда сокрылись необъятные сокровища ума, знаний, идей… Стоя в глубоком снегу у открытой могилы, я тяжело выдавливал из себя слова Джона Донна о том, что смерть каждого Человека умаляет и меня, что смерть Льва Ефимовича умалила всех нас, близких ему, и тех, кому не посчастливилось стать ему близкими, умалила многих, очень многих…
Спустя некоторое время я получил от Сары Яковлевны книгу Льва Ефимовича об истории культуры стран Европы и Америки. В ней – надпись: «Дорогому Аркадию Беньяминовичу в память о Льве Ефимовиче, сначала – учителе, потом – друге. С.Я.»
Эта надпись мне очень дорога. Я рад тому, что он воспринимал меня как друга. Он же всегда был и остался для меня Учителем и недосягаемым во всех отношениях Человеком. Как говорят уважаемые им англичане, «Человеком на все времена – The person for all times».
Дата поступления рукописи в редакцию 08.07.2017