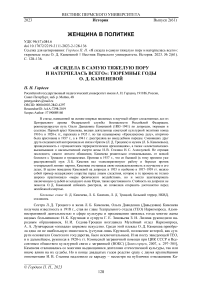"Я сидела в самую тяжелую пору и натерпелась всего": тюремные годы О. Д. Каменевой
Автор: Гордеев П.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Женщина в политике
Статья в выпуске: 2 (61), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье, написанной на основе впервые вводимых в научный оборот следственных дел из Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации, реконструируется путь Ольги Давидовны Каменевой (1883-1941) по допросам, тюрьмам и ссылкам. Первый арест Каменева, видная деятельница советской культурной политики конца 1910-х и 1920-х гг., пережила в 1935 г. по так называемому «Кремлевскому делу», вторично была арестована в 1937 г., а в 1941 г. расстреляна во внесудебном порядке. Сменявших друг друга следователей интересовали ее связи с братом (Л. Д. Троцким) и мужем (Л. Б. Каменевым), принадлежность с «троцкистским террористическим организациям», а также «клеветнические» высказывания о насильственной смерти жены И. В. Сталина Н. С. Аллилуевой. Не отрицая последнего, самого легкого обвинения, Каменева решительно отмежевывалась от всякой близости с Троцким и троцкистами. Признав в 1937 г., что ее бывший (к тому времени уже расстрелянный) муж Л. Б. Каменев вел «конспиративную» работу и боролся против «генеральной линии» партии, Каменева отстаивала свою неосведомленность и неучастие в его делах. В целом поведение Каменевой на допросах в 1935 и особенно в 1937-1939 гг. являло собой пример незаурядного упорства перед лицом следствия, которое в те времена не только широко практиковало «меры физического воздействия», но и могло шантажировать заключенную судьбой ее младшего сына Юрия, также арестованного. Стойкость на допросах не помогла О. Д. Каменевой избежать расстрела, но позволила сохранить достоинство перед неизбежной смертью.
О. д. каменева, л. б. каменев, л. д. троцкий, большой террор, нквд, сталинизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147245307
IDR: 147245307 | УДК: 94(47).084.6 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-2-128-136
Текст научной статьи "Я сидела в самую тяжелую пору и натерпелась всего": тюремные годы О. Д. Каменевой
меневой и от брата, и от мужа, с которым она в 1927 г. оформила развод [ Фельштинский , Чернявский , 2013, с. 298]. Некогда высокопоставленная «советская дама» ( Ходасевич , 1991, с. 72), имевшая свой «салон» [ Fitzpatrick , 2002, p. 83], занимала теперь все менее значительные должности: в 1929–1930 гг. возглавляла Всесоюзное общество «Техника – массам» (ГАРФ. Ф. Р5576. Оп. 1 а. Д. 108. Л. 1а, 3), одновременно с 1929 г. председательствуя в Организационном комитете Всероссийского общества «Друг детей» (Вся Москва…, 1931, отд. II, с. 118) [ Дивно-горцев , 2007, с. 303]. Окончательно прежняя жизнь завершилась для нее в 1935 г. с первым арестом по так называемому «Кремлевскому делу» [ Хлевнюк , 2010, с. 252–256; Жуков , 2017, с. 99– 135]. Следственные дела Каменевой сохранились в Центральном архиве ФСБ России и впервые вводятся в научный оборот.
После убийства С. М. Кирова для бывших противников Сталина по партийной борьбе 1920-х гг. наступили тяжелые времена. Уже в декабре 1934 г. был арестован Л. Б. Каменев, 5 марта 1935 г. та же судьба постигла его старшего сына Александра ( Кравченко , 1995, с. 217), впоследствии публично обвиненного в создании «по прямым заданиям отца» «диверсионновредительской группы» ( Заковский , 1937, с. 14). 20 марта 1935 г. сотрудники НКВД провели обыск у О. Д. Каменевой, проживавшей в квартире 13 дома 9 по Манежной улице, после которого Ольга Давидовна была задержана. 26 марта ее формально допросил уполномоченный 2-го отделения Секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности Яковлев, установив анкетные данные и краткие биографические сведения (ЦА ФСБ. АУД Р33640. Т. 17. Л. 142, 147–147 об.). 30 марта последовал уже настоящий допрос, который вели заместитель начальника Секретно-политического отдела ГУГБ Г. С. Люшков (впоследствии известный перебежчик, бежавший к японцам и разоблачавший в различных интервью сталинский террор [ Петров , Скоркин , 1999, с. 280–281]) и начальник 2-го отделения М. А. Каган (современный исследователь называет Кагана «пожалуй, ключевой фигурой следствия по “Кремлевскому делу”» [ Жуков , 2017, с. 100]). В протоколе было зафиксировано, что Каменева признала себя виновной в распространении «контрреволюционной клеветы» в беседе со своим деверем, художником Н. Б. Розенфельдом, а именно в том, что она ознакомила его с письмами Л. Б. Каменева, в которых тот писал, что жена Сталина Н. С. Аллилуева умерла «не естественной смертью». Сама Каменева сообщила при этом Розенфельду, что Аллилуева «покончила жизнь самоубийством, так как ее довел до этого Сталин» (ЦА ФСБ. АУД Р-33640. Т. 17. Л. 148–151).
Спустя почти месяц, 25 апреля 1935 г. Каменева направила обращение на имя заместителя наркома внутренних дел Г. Е. Прокофьева, который ее «несколько знал» по работе в ВОКС. Ольга Давидовна писала из больницы Бутырского изолятора, что в день ареста она искренно была уверена: «нет за мной вины и не может быть перед партией и совправительством» (Там же. Л. 152). Однако «уже на первом допросе я по-честному должна была признать, что допустила преступное легкомыслие, за которое я должна поплатиться. Следователь выявил от арестованного один разговор мой, который, по словам следователя, был использован в целях “клеветы”» (Там же). Каменева отвергала какие-либо политические цели роковой для нее беседы: «Этот разговор я основательно забыла не только потому, что у меня очень ослабела память, но и потому, что он был давно, что он был случайный, носил характер сенсационно-сплетнический (отнюдь не политический) и собеседник подвернулся случайный (хотя я знаю его около 30 л. – он брат быв[шего] мужа). По данным показаниям я сообщила ему ложную информацию в связи с тем, что он зачитал вопрос из письма брата. Не помню, но этот вариант наиболее правдоподобен, т. к. только в такой обстановке я с ним вообще могла говорить на эту тему. На этом первом допросе следователь заявил мне, что он пробует мою “правдивость” на мелочишке. Однако эта “мелочишка” вылилась для меня в 58(11) статью» (Там же). Упирая на случайный и необдуманный характер давно бывшей беседы с Розенфельдом, Каменева просила о снисхождении: «Сейчас я нахожусь в трагическом положении, а по этой статье не только вывожусь из рядов партии, но и вычеркиваюсь из числа миллионов честных Советских граждан. Причем у меня нет перспективы вернуться на широкую социалистическую дорогу. Я не специалист, физическим трудом я тоже не смогу выйти в знатные ударники. Нужно думать, что для меня вообще будут закрыты [так в тексте. – П. Г. ] доступ к работе на любом участке соц[иалистического] стр[оительства] в такое время, когда сомнительные элементы должны быть вычищены из аппаратов. Куда же мне с приговором по 58 ст. Неужели же объективно я в СССР заслужила такой участи» (Там же).
Каменева просила Прокофьева «уделить ей время», указывая на то, что ведущий дознание следователь и не пытается искренне понять ее: «Я дошла до такого состояния, что на допросах плачу и прошу следователя помочь мне (хотя разумом понимаю, что я к нему отношусь как к партийцу, а он ко мне как к человеку, у которого нужно “выудить” что он хочет скрыть. У него целеустремленность диаметрально противоположна той, о которой я прошу). Я пишу об этом с излишней (не деловой) подробностью, чтоб Вам стало ясно, насколько я нуждаюсь (учитывая несомненное нарушение психики) индивидуального подхода [так в тексте. – П. Г. ] и в помощи мне. Я жду ее от Вас» (Там же. Л. 153). Арестованная при этом подчеркивала, что никакие соображения родства не влияют на ее преданность ВКП(б) и ее руководству: «Вы знаете, что я никогда не отклонялась от генеральной линии партии, хотя мне этого достичь было трудней, нежели любому другому рядовому партийцу – это так» (Там же). Прокофьев, разумеется, и не думал помогать Каменевой, но переслал снятую для него машинописную копию обращения для ознакомления другому видному чекисту Я. С. Агранову, вероятно, сочтя документ не лишенным интереса (Там же. Л. 152).
Спустя 4 дня, 29 апреля, Каменева обратилась к Г. Е. Прокофьеву с новым письмом. Прося последнего не счесть «мою настойчивость за назойливость», Ольга Давидовна писала: «Поверьте, что только безысходное горе толкает меня на это» (Там же. Л. 155). Раскаиваясь в том, что она под давлением следователя подписала признание в злополучном разговоре с Розенфельдом, Каменева теперь рассчитывала «на то, что формальный момент – подпись, не может в СССР покрыть сущность дела » (Там же). Не признавая себя « виновной в контр-революционной клевете против партии и Сов[етской] власти », она взывала к Прокофьеву: «Я думаю, что Вы сами поймете (у следователя рекордсменство при недоверии ко мне – брало верх над человечностью ко мне) что психологически так не бывает: чтоб человек (не примыкающий ни к какой группировке), вросший (за 18 лет) в партию (не имела ни разу выговора, замечания); советский гражданин, принимавший активное участие в соц[иалистическом] строительстве с первой ночи Октября – в то время, когда СССР достиг гигантского расцвета! – стал контр-революционером. Я предана партии не меньше любого старого партийца, хотя нахожусь у Сов[етской] власти под замком и уже исключена из партии…» (Там же. Л. 155, 157). Каменева просила устроить ей очную ставку « с тем гражданином (или гражданами), кто меня “разоблачает” в моих преступлениях » (видимо, речь шла о Н. Б. Розенфельде), выражая надежду, что после этого «и Вам, руководству, станет картина моего дела ясна» (Там же. Л. 157).
В ее обращении через униженный тон просительницы порой прорывался прежний голос «кремлевской дамы»: «Не проходимка же я, не рядовая обывательница для Советской власти, чтоб ничуть не считаться, не прислушаться к тому, что я говорю» (Там же). Настаивая на том, что на допросе у нее выудили признание в том, в чем она не считала себя виновной («очевидно, “научно” назовет психиатр тот нервный шок, который автоматически наступает при “психической атаке” на допросе (спазма всех сосудов, абсолютное раздвоение мысли и воли – какой-то гипноз)»), Каменева просила о снисхождении: «Объективно моя гибель никакой пользы не принесет – не тот портфель , какой нужен для проработки. Мое физическое и моральное разрушение (учитывая степень моей вины) – тоже никому не нужно. Зачем же рисковать сумасшествием?» (Там же. Л. 157–158).
Письма к Г. Е. Прокофьеву, конечно, не привели к оправданию Каменевой. Впрочем, она была наказана сравнительно мягко: 14 июля 1935 г. Особое совещание при НКВД СССР постановило лишить ее права проживания в Москве и Ленинграде сроком на 5 лет. Реабилитация по этому делу последовала лишь в 1958 г.; 21 августа 1958 г. генеральный прокурор Р. А. Руденко в своем обращении в Военную коллегию Верховного суда, предлагая прекратить дело в отношении Каменевой, отметил: «Произведенной в 1956–1958 гг. проверкой установлено, что никакого кремлевского заговора, а также террористических групп в Кремле не существовало, и что это дело следственными органами было искусственно создано» (ЦА ФСБ. АУД Р-33640. Т. 3. Л. 254–255). Тем временем Каменева после приговора оказалась в Алма-Ате, куда, видимо, была выслана органами госбезопасности, а 18 ноября 1935 г. переехала в Нижний Новгород, носивший в то время имя писателя Горького. Там Ольга Давидовна, ранее повелевавшая театрами и литературными организациями, устроилась в библиотеку имени Ленина на должность картотетчицы (ЦА ФСБ. АУД № Р-23728. Л. 1, 7). На широком волжском берегу ей оставались еще почти два года вольной жизни, пока НКВД вновь не обратил на нее свое внимание.
За прошедшее между двумя арестами время судьба нанесла новые тяжелые удары по некогда высокопоставленной семье Каменевых. В 1936 г. по приговору Первого Московского процесса был расстрелян Л. Б. Каменев, а его сына Александра Львовича, высланного в Алма-Ату, арестовали вторично (после «признаний» А. Л. Каменева в участии в «троцкистской организации» бывшего летчика и инженера расстреляли в Ленинграде 10 мая 1937 г.) [Ленинградский мартиролог…, 1999, с. 190; Хаустов , Самуэльсон , 2010, с. 113]. Летом 1937 г. младший сын Каменевых Юрий поехал из Москвы на каникулы в г. Горький к матери. Вместе их и арестовали ( Кравченко , 1995, с. 217).
20 июля 1937 г. Каменева после проведенного в тот же день оперуполномоченным сержантом Горшковым обыска (по месту ее жительства – в квартире 5 дома 23 по улице Студеной) была вновь задержана и отправлена в спецкорпус Горьковской тюрьмы. Лишь 27 октября 1937 г. ее начал допрашивать оперуполномоченный Шапалов. Он хотел добиться от Каменевой ответа на вопрос, когда и как она установила связь «с женой ссыльного троцкиста Бочаровой, проживающей в гор. Горьком?» (ЦА ФСБ. АУД № Р-23728. Л. 2, 4, 6–7). Каменева заявила, что с Бочаровой она виделась всего три раза (познакомившись ранее в Алма-Ате с ее мужем, давшим адрес жены, у которой можно было переночевать), все – в конце 1935 г., когда она только приехала в Горький. При этом никаких политических разговоров у них с Бочаровой не было «и не могло быть, т. к. она была занята учебой и другими своими делами» (Там же. Л. 7–8 об.). Итоги допроса были с точки зрения следствия неудовлетворительными: несмотря на страшные методы «дознания», практиковавшиеся во второй половине 1937 г., Каменева не дала «материал» ни на себя, ни на третьих лиц.
Следующий допрос, последовавший 9 ноября, Шапалов, требуя «откровенных показаний», вновь начал с вопросов о беседах с Бочаровой («в гор. Горьком при встречах с женой высланного троцкиста Бочаровой Вы систематически высказывали свои кр [контрреволюционные. – П. Г. ] настроения») (Там же. Л. 9), но Каменева снова отказалась подтвердить какие-либо беседы, затрагивавшие политику. Тогда оперуполномоченный резко переменил тему и спросил: «Будучи членом партии ВКП(б), что Вами сделано для того, чтобы разоблачить своего мужа Каменева и других врагов народа?» (Там же. Л. 10–10 об.). «Ничего», - вынуждена была признать Ольга Давидовна. На последовавший за этим вопрос Шапалова, в чем же она в таком случае признает себя виновной, Каменева ответила: «Виновной себя признаю в том, что я недооценила своего ответственного положения благодаря семейным и родственным отношениям. Я вполне сознательно огороживала [так в тексте. – П. Г. ] себя от того, чтобы не попасть под влияние Каменева и других его единомышленников. И считала своей заслугой в том, что я узнавала о кр деятельности Каменева и других из документов обнародованных, т. е. на проработках» (Там же. Л. 10 об.). Балансируя между признанием «вины» и попыткой найти оправдание в своей неосведомленности, Каменева настаивала: «Я вполне сознательно не хотела знать о конспиративной работе Каменева и других, которую они проводили» (Там же. Л. 11).
Сюжетная линия, связанная с бывшим мужем Ольги Давидовны, оказалась для следствия более перспективной, и следующий допрос (16 ноября 1937 г.) Шапалов посвятил семейным делам арестованной. В самом начале оперуполномоченный поинтересовался, сколько лет она была замужем за Л. Б. Каменевым, на что последовал ответ: «В замужестве с Каменевым я жила с 1905 года по 1924 год, а с 1924 г. по 1927 год жила вместе в Кремлевской квартире, с 1927 г. до последнего времени Каменев в моей квартире имел свой кабинет и иногда заходил» (Там же. Л. 12). На гораздо более острый вопрос «Когда Вам стало известно о том, что Ваш муж Каменев встал на путь борьбы с генеральной линией партии?» - Ольга Давидовна, согласно протоколу, ответила: «Мне известно, что Каменев на всем протяжении своей жизни вел борьбу с Генеральной линией партии, как до революции, так и после революции» (Там же). Вероятно, зная о судьбе Л. Б. Каменева, к тому времени уже расстрелянного, она решила пожертвовать его репутацией в надежде отстоять себя. «Категорически отрицаю, – заявила Каменева в ответ на очередной вопрос, – что я высказывала кр взгляды в отношении тов. Сталина» (Там же. Л. 13). На предложение следователя дать показания о «кр агитации» она также ответила отказом («Не могу, потому что я ее не проводила»), в итоге признав себя виновной лишь в том, «что я являлась женой врага народа Каменева до 1924 г.» (Там же. Л. 13–13 об.).
Незаурядное упорство, проявленное Каменевой на допросах, не помешало следствию подготовить обвинительное заключение, в котором говорилось, что задержанная, «жена осужденного врага народа Каменева, после судебного процесса над троцкистско-зиновьевским центром, установила связь с троцкистами в гор. Горьком и со дня ареста проводила а/советскую деятельность», а также знала и не сообщала об антисоветской деятельности Л. Б. Каменева (Там же. Л. 30–31). 1 февраля 1938 г. в Горьком состоялось закрытое заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного суда (председательствовал диввоенюрист Б. И. Иевлев, присутствовали члены коллегии военные юристы Д. Я. Кандыбин и А. Г. Суслин). В протоколе заседания было отмечено, что Каменева «виновной себя она не признает и показания предварительного следствия отрицает. На предварительном следствии она подписала свои показания» (Там же. Л. 33). Последнее слово, данное Каменевой перед вынесением приговора, в сделанной от третьего лица протокольной записи звучит так: «Она категорически утверждает, что она никогда не была связана с К-р. работой мужа. Она всю жизнь честно и бескорыстно работала на фронте революционного движения. Она получила ссылку в связи со смертью Аллилуевой. С Каменевым она не жила последнее время. Просит дать возможность переменить ей фамилию и жить честным человеком. Она все время честно боролась на революционном пути. В 1923 году она порвала все с предателем Троцким и разошлась с Каменевым, правда, не оформила развод с последним. Просит суд реабилитировать ее и дать возможность честно дожить до конца своей жизни» (Там же. Л. 33 об.).
Разумеется, никакие речи не произвели впечатления на Военную коллегию, штамповавшую в то время обвинительные приговоры. Каменеву признали виновной в том, что она, «будучи организационно связана с врагом народа Каменевым Л. Б., была осведомлена о его а/с диверсионно-террористической деятельности, а после осуждения Каменева она вела антисоветскую агитацию, распространяя клеветнические измышления в отношении руководства ВКП(б) и Советского правительства», таким образом виновной «в преступлениях, предусмотренных стат. 17, 58-8-9 и 11 УК РСФРСР» (Там же. Л. 34). По совокупности прегрешений Каменева была приговорена к заключению сроком на 25 лет с конфискацией всего имущества и с поражением в политических правах на 5 лет (Там же. Л. 34 об.). Для Ольги Давидовны началось странствие по тюрьмам, продолжавшееся несколько лет.
В одном из дел, сохранившихся в Центральном архиве ФСБ, имеется машинописная копия ее обращения на имя прокурора СССР А. Я. Вышинского, поданного 4 января 1939 г. из тюрьмы в г. Казани. «Боюсь, что первая мысль Ваша, Верховный прокурор СССР, будет, что с моей стороны величайшая наглость ставить вопрос в разрезе ошибки при таком суровом приговоре. Но зато убеждена, что если лично ознакомитесь с моим делом, то убедитесь, что в данном случае “чем хуже – тем лучше”. Обвинение голословно, ничем не обосновано, ни одного факта из моей реальной жизни не приводится. Мое дело смонтировано следователем на основании формальной мотивировки “сестра”, “жена” предателей Родины, на геометрических формулах – Саша [возможно, имеется в виду ее старший сын А. Л. Каменев. – П. Г. ] “враг”. Я следственного материала не знаю, хотя все документы скрепляла своей подписью» (ЦА ФСБ. АУД Р-33640. Т. 3. Л. 256), - писала Каменева, переходя затем с гневно-требовательного на просительный тон. «Я вас, глубокоуважаемый Андрей Януарьевич, по первому неправильному делу (г. Москва, 1935 г.) информировала о своей болезни (№ 16 истории болезни в Кремлевской больнице), в силу которой я при сильных душевных потрясениях впадаю в прострацию (запаздывают рефлексы) и обезволиваюсь. Следователь предупредил меня, что следствие закончено, я подписала “обвинение”, предполагая, что с запозданием оформляю “выписку постановления”. Следователь знал о характере моей болезни <…> Я была безразлична и подписывала все» (Там же).
Каменевой вскоре пришлось смириться с бесплодностью попыток изменить свой приговор через обращения к «глубокоуважаемому Андрею Януарьевичу». Но она продолжала мучиться, не зная ничего о судьбе младшего сына Юрия, арестованного в Горьком в 1937 г. в 16летнем возрасте. Ей не было известно о том, что уже 30 января 1938 г. Юрий был расстрелян (Реабилитация…, 2003, с. 622) [Васильева, 2012, с. 67]. В 1939 г. перед Ольгой Давидовной, казалось, мелькнула возможность узнать и, быть может, даже повлиять на положение сына. Вслед за сменой руководства в НКВД и арестом прежнего наркома Н. И. Ежова саму Каменеву летом 1939 г. перевели «из Владимирской тюрьмы в Москву для перепроверки показаний Мейерхольда» (ЦА ФСБ. АУД № Р-23728. Л. 14).
Каменева воспользовалась этим обстоятельством и 8 августа 1939 г. написала заявление на имя наркома внутренних дел Л. П. Берия: «Два раза в 39 г. я обращалась в НКВД СССР с большой просьбой – о младшем сыне моем, Юрии Львовиче Каменеве. В последнем заявлении я лично Вас, Народный Комиссар, умоляла заинтересоваться судьбой несчастного юноши, арестованного в Горьком в 37 г., когда ему исполнилось 16 лет 4 м. (Он на каникулы приехал из Москвы ко мне). Поскольку его арест и суровый приговор связаны с моим, глубоко ошибочным, делом, я разрешила себе Вас проинформировать и о своем деле; привести факты из жизни, которые в корне противоречат пунктам, инкриминируемым мне в “Обвинительном заключении”» (Там же. Л. 22). Отметив, что никакого ответа на предыдущие обращения она не получила, Каменева просила «простить мне, что я вновь обращаюсь к Вам по тому же вопросу. Надеюсь, что Вы не сочтете меня назойливым человеком, ибо чувство матери в СССР уважается. Я просила б Вас, глубокоуважаемый гражданин Народный Комиссар, принять меня на несколько минут (предполагаю, что личное разъяснение упростит и ускорит разрешение вопроса о сыне). Если бы Вы не сочли нужным меня принять, то я очень все же прошу Вас вернуть Юрию возможность честно и свободно жить – учиться и работать, поскольку он нормально [так в тексте. – П. Г. ] честный советский юноша!» (Там же. Л. 22–22 об.). В том же обращении Каменева просила не отказать и в еще одной «скромной просьбе»: «Дать мне сведения о нем. (2 года я о нем ничего не знаю. Мальчик – слабый физически). Разрешите мне его приободрить письмом (хотя б одним) и ему ответить мне (если он того захочет?..) <…> ! Страдания матери мне дают это право!» (Там же. Л. 22 об.).
Пока не удалось установить, дошло ли это письмо хотя бы в копии до Л. П. Берии (оригинал его, во всяком случае, остался в следственном деле Каменевой). Однако допрашивавший ее по делу В. Э. Мейерхольда старший следователь М. М. Воронин (лично организовывавший пытки Мейерхольда [ Фельдман , 2022, с. 12–13]) поддерживал в заключенной матери уверенность, что она может повлиять на судьбу сына. Ответив уклончиво на проводившемся 10 августа 1939 г. допросе на вопросы о Мейерхольде и его (равно как и ее самой) связях с Л. Д. Троцким (значительная часть ответов Каменевой, относившихся к режиссеру, состояла из «не помню», «мне неизвестно» и др., связь же со своим братом она решительно отрицала – «не принадлежала ни к какой троцкистской группе, а наоборот – я боролась сама с Троцким и оппозицией всех оттенков» (ЦА ФСБ. АУД № Р-23728. Л. 26)), Ольга Давидовна вновь попыталась напомнить о сыне.
14 сентября 1939 г. она писала Воронину: «23/VIII Вы мне (по своей инициативе) любезно обещали “обязательно” вызвать 25/VIII, чтоб я изложила свой больной вопрос… Накануне – Вы пообещали передать Народному Комиссару Внутр[енних] Д[ел] СССР, что я умоляю его принять меня хотя бы на несколько минут! Кроме того мне страшно важно узнать – дошло ли к Наркому мое заявление из Суздальской тюрьмы лично на его имя? В нем я изложила свое “дело” и о своем сыне (арестованном в 16 лет) арестованном в Горьком (!!) в 37 г. Думаю, что, ознакомившись с фактической стороной моего дела, сам Народный Комиссар может захотеть дополнительные сведенья получить от меня (поскольку я попала в Москву)». Понимая, что у следователя «большая загрузка делами», Каменева все же просила уделить ей 20-30 минут в ближайшие дни: «Ваше обещание принять меня (25/VIII) я восприняла, как человеческую отзывчивость к страданиям матери! Я больше 2-х лет ничего не знаю о юноше (слабом физически, проведшем год в Горьковской тюрьме!!) моем сыне. Ни в чем не повинном перед СССР. Жив ли? Где он?» (Там же. Л. 23–23 об.). В последних строках измученная женщина металась между мыслями о сыне и бытовой просьбой: «Я нахожусь в тюрьме уже 3-й год (в 5-ой по счету). Я сидела в самую тяжелую пору и натерпелась всего!... Единственная отрада за последний год – газета . Теперь я лишена газеты! Нельзя ли создать обстановку, чтоб я имела газету?» (Там же. Л. 23 об.).
До поры до времени О. Д. Каменевой разрешалось обращаться письмами то к Л. П. Берии, то к следователю, но вскоре следствию по делу Мейерхольда осужденная стала уже не нужна. 21 ноября 1939 г. лейтенант госбезопасности Блок, однофамилец великого поэта, постановил: так как «в этом направлении» (мейерхольдовском) «Каменева была допрошена и даль- нейшее ее пребывание в Москве не вызывается необходимостью», отправить ее обратно во Владимирскую тюрьму (Там же. Л. 14–15). Впрочем, и это место заключения оказалось не последним: в 1941 г. Каменева содержалась уже в тюрьме г. Орла. В преддверии немецкого наступления на Москву руководством страны было принято решение о расстреле 157 узников Орловской тюрьмы (среди которых были революционер и советский дипломат Х. Г. Раковский, видные представители партии левых эсеров А. А. Измайлович и М. А. Спиридонова, математик Ф. М. Нётер, известный врач Д. Д. Плетнев и др.). В числе прочих 11 сентября 1941 г. была расстреляна и О. Д. Каменева (Там же. Л. 36; Трагедия в Медведевском лесу…, 1990, с. 124, 126).
От первого ареста до казни прошло шесть с половиной лет, полных мучений, страха и периодически проявлявшихся проблесков надежды – сначала на облегчение собственной участи, затем на спасение младшего сына. Нельзя не признать, что, в отличие от многих собратьев по несчастью (например, профессора Д. Д. Плетнева, всю жизнь занимавшегося медициной), О. Д. Каменева пострадала не совсем уж безвинно. И дело, конечно, не в «антисоветской агитации» и «троцкизме» (впрочем, сестра Троцкого, отрекаясь от него на словах, вполне возможно, втайне и восхищалась братом); Каменева сама когда-то была видным деятелем того режима, который с момента своего возникновения широко и открыто практиковал репрессии против «врагов». Во время первого ареста в 1935 г. она еще, судя по протоколу, не ставила под сомнение необходимость «вычищать» «сомнительные элементы», только не готова была причислить к ним саму себя. Осознала ли она в дальнейшем свою причастность, пусть и косвенную, к формированию лагерной системы – остается неизвестным.
При всем том Каменевой невозможно отказать в упорстве и незаурядной выдержке. «Фанатик дела», как назвала ее невестка ( Кравченко , 1995, с. 217), она постоянно вела борьбу со следователем, максимально отстаивая свою невиновность. Даже в страшных условиях 1937–1939 гг., когда в руках работников НКВД были не только «физические меры воздействия», но и возможность шантажировать ее судьбой младшего сына, Каменева не дала сколько-нибудь значимый «материал» ни на себя, ни на кого-либо из своего окружения, за исключением к тому времени уже казненного бывшего мужа (по крайней мере, такой вывод можно сделать в ходе изучения доступных для исследователя листов дела Каменевой; часть дела номер Р-23728 остается пока засекреченной). Формальные обвинения, по которым ее осудили на четвертьвековой тюремный срок, в сущности, малозначительны («была осведомлена», «распространяла измышления») – большего следователям добиться не удалось, и это в то время, когда тысячи арестованных «признавались» в подготовке террористических актов и работе на несколько разведок одновременно.
Список литературы "Я сидела в самую тяжелую пору и натерпелась всего": тюремные годы О. Д. Каменевой
- Васильева Л.Н. Дети Кремля. М.: Бослен, 2012. 480 с.
- Дивногорцев А.Л. О.Д. Каменева - первый председатель ВОКС, ее деятельность в области международного книгообмена (1920-е гг.) // Библиотека в контексте истории: материалы 7-й Междунар. науч. конф., Москва, 3-4 окт. 2007 г. М.: Пашков дом, 2007. С. 297-305. EDN: VUGSEP
- Жуков Ю.Н. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. М.: Концептуал, 2017. 368 с.
- Ленинградский мартиролог 1937-1938 гг.: книга памяти жертв политических репрессий / под ред. А.Я. Разумова. СПб.: Изд-во Рос. нац. библиотеки, 1999. Т. 4. 734 с.
- Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934-1941: справочник. М.: Звенья, 1999. 504 с.
- Фельдман О.М. Семь с половиной месяцев в тюрьме // Дело № 537. Документы следственного дела В.Э. Мейерхольда. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2022. С. 8-15.
- Фельштинский Ю.Г., Чернявский Г.И. Лев Троцкий. Книга третья. Оппозиционер. 1923-1929 гг. М.: Центрполиграф, 2013. 464 с.
- Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2010. 432 с.
- Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2010. 479 с.
- Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 355 p.