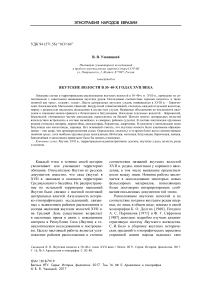Якутские волости в 30-40-х годах XVII века
Автор: Ушницкий Василий Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Показаны состав и территориальное расположение якутских волостей в 30-40-х гг. XVII в., проведено их сопоставление с известными названиями якутских родов. Исследовано соответствие термина «волость» и таких понятий как «род», «племя», «клан». Шесть центральных якутских улусов, появившихся в XVIII в. - Борогонский, Кангаласский, Мегинский, Намский, Батурусский и Баягантайский, считались каждый отдельной волостью, наряду с родами или наслегами, вошедшими в состав этих улусов. Названные объединения по численности населения и значению можно сравнить с бетюнгцами и батулинцами. Население отдельных волостей - Жарханской, Бордонской, считавшееся частью кангаласцев, переселилось на Вилюй. Жители многих центральных волостей впоследствии встречались в составе вилюйских и северных районов (улусов). В составе кангаласцев крупными родами считались нахарцы, нерюктэйцы, мальжегарцы, бордонгцы, джарханцы. В соседстве с кангаласцами жили батулинцы или жексогонцы, хоринцы. Нет оснований считать, что якутские волости были клановыми образованиями - они шире, чем кровнородственная семья. Определение «волость» в то время более всего соответствовало понятию «род», хотя наиболеекрупные роды (кангаласцев, бётёнгцев, мегинцев, батулинцев, борогонцев, намцев, баягантайцев идюпсинцев) правильнее было бы назвать племенами.
Якутия, xvii в., территориально-административное деление, якутские улусы, волости, роды и племена
Короткий адрес: https://sciup.org/147219781
IDR: 147219781 | УДК: 94
Текст научной статьи Якутские волости в 30-40-х годах XVII века
Каждый этнос в течение своей истории увеличивает или уменьшает территорию обитания. Относительно Якутии из русских документов известно, что саха (якуты) в XVII в. занимали в основном территорию Среднеленского бассейна. Их распространение по остальной территории нынешней Якутии было связано с ясачной политикой центральных властей. Актуальность историко-этнографических исследований, связанных с выявлением районов расположения и состава населения якутских волостей XVII в. на Средней Лене существенно возрастает в настоящее время в связи с повышением интереса в Республике Саха (Якутия) к генеалогическим исследованиям и построениям. Целью настоящей работы является установление районов расположения и степени соответствия названий якутских волостей XVII в. родам, известным у коренного населения, в том числе выявление преемственности между ними. Новизна работы заключается в использовании некоторых новых фольклорных материалов, позволяющих более достоверно интерпретировать сообщения письменных документов той эпохи.
Расположение якутских волостей и их соответствие поздним якутским родам впервые, но лишь в общем виде, показал в своей монографии Б. О. Долгих [1960]. Позднее А. С. Парникова [1971] и Ф. Г. Сафронов [1987] довольно подробно изучили административную систему Якутского воеводства. С. И. Боло в сборнике якутских исторических преданий и этнографических зарисовок старинной жизни народа высказал свое
Ушницкий В. В. Якутские волости в 30–40-х годах XVII века // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 5: Археология и этнография. С. 82–89.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 5: Археология и этнография
мнение о расположении якутских родов [Боло, 1994]. Трудами этих авторов, а также некоторых других (см., например, [Иванов, 1982; 1985]) в целом создана достаточно объективная, но не полная картина этнических процессов и миграций в регионе, не всегда достоверно или детально отражающая административное устройство региона. Кроме того, часть материалов не интерпретировалась или использовалась недостаточно адекватно из-за отсутствия видимой связи между именами конкретных исторических деятелей и известными административными образованиями. Имеется ряд аспектов данной темы, отраженных в фольклоре, но не затрагивавшихся исследователями, поскольку о таких событиях или процессах не упоминалось в письменных источниках.
В целом, исходя из документов XVII в. мы можем иметь лишь общее представление об административной карте региона. Так, Иван Галкин в «Книге ясачного сбора» от 1631 (1632) г. «Якольскую землицу» разделил на отдельные «улусы». Там мы встречаем «Котунсково улусы князца Семена», «Первые улусы Якольской земли», «Буту-линсково улусы князца Ногуя», «Мангуско-вы улусы князца Бурухи», «Кулунсково улусы князца Сотоя» [Материалы по истории…, 1970. С. 2–3]. Характерно, что здесь фигурируют крупные этнические группировки, во главе которых стояли известные князцы или родовые вожди-тойоны. Князец Семен – это бетюнский тойон Семен Улта, котунсковы улусы – это бетюнцы. Батулин-ский Ногуй, как и мегинский Буруха, известны своим сопротивлением русскому продвижению. Как предполагал Б. О. Долгих, «Кулунсковы улусы» – это намцы с острова «Кулун тутар», а «Первые улусы» – это кангаласцы [Долгих, 1960. С. 353–354].
В данной ситуации показательным является термин «улусы», которым в Сибири казаки обозначали даже территориальные объединения кетов и юкагиров. После этого сообщения в русских документах XVII в. мы более не встречаем термин «улус» по отношению к якутскому населению. Вместо него якутские роды получили обозначение «волости». Среди 16 волостей, перечисленных в списке П. Бекетова в 1633 г., присутствуют родовые названия территориальных групп якутов : Дюпсинская, Мегинская (Ман-гунская), Чериктейская, Тагусская, Канга-ласская, Бетунская, Батулинская, Баксин- ская, Намская, Нерюктэйская, Хатылинская «волости». В списке есть сильно искаженные наименования – Гасилинская и Губчин-ская волости. Возможно, это Энесильская и Гурменские «волости». В качестве волостей обозначены также Мастахская и Маганская, позднее известные в качестве родовых названий мелких групп кангаласцев.
Характерно, что среди этого довольно полного списка якутских родовых (племенных?) названий нет борогонцев и баяган-тайцев, впоследствии составивших отдельные улусы (районы). Постольку это список именно «ясачных» волостей, возможно, они тогда не платили ясак, так как первый Ленский острог был поставлен в землях боро-гонцев, а баягантайцы жили далеко на Алдане и Таатте и до них еще не добрались ясачные сборщики-енисейцы. Если исходить из предания о приходе третьего прародителя якутов Улуу Хоро через Амгу, Таат-ту и Алдан на оз. Мюрю и истреблении хоролоров сыновьями Тыгына, то эти сведения могут отражать реальные события – нападения кангаласцев на Подгороднюю волость (борогонцев) в 1636 г. Следовательно, борогонцы и баягантайцы входили в состав легендарных хоролоров.
В списке от 1639 (1640) г. атамана Пар-фена Ходырева в качестве наименований волостей перечислены почти все родовые названия якутов [Материалы по истории…, 1970. С. 47–119]. По словам Ф. Г. Сафронова, в 1640-х гг. установился окончательный список якутских волостей в количестве 35–36 единиц, который без изменения сохранялся на протяжении около 80 лет. В XVIII в., точнее в 1726 г., в административную практику вернулся термин «улус», заменивший «волости» – были созданы улусы Батурусский, Борогонский, Кангаласский, Мегинский и Намский. Это означает, что улусы центральной части Якутии – Баягантайский и Дюпсинский, выделились из состава Боро-гонского позднее этой даты [Сафронов, 1987. С. 10–11]. Еще позднее были образованы Восточно-Кангаласский и Западно-Кангаласский улусы.
Исходя из сведений якутского фольклора надо полагать, что улусы как территориально-административные образования соответствовали делению якутов на племена – «дьоны». Более того, указывается, что подобное деление в якутском обществе существовало издревле [Боло, 1994]. При этом обращает на себя внимание тот факт, что в фольклоре в качестве отдельных крупных родов или улусов не упоминаются бетюнцы и батулинцы, составлявшие наиболее крупные и сильные роды (племена) якутов в XVII в. В результате военных действий на Средней Лене в 30–40-х гг. они были обескровлены и в значительной массе мигрировали на новые места, осваиваемые якутами. Следовательно, деление на пять-шесть и более крупных улусов – это позднее явление в якутской истории. Оно связано с образованием крупных территориальных групп, соответствующих понятию племени, пришедшему на смену кровнородственному роду. В свою очередь, названия волостей, образованных из родов – «ага уустара», сохранились в именах наслегов. Постольку эти «ага уустара», ставшие волостями, составляют «хребет» якутского этноса, то попытаемся установить их географическое распространение и дать этимологию имен.
Следует перечислить роды большого Кангаласского улуса, ставшие отдельными волостями. Некоторые из представленных этнонимов являются антропонимическими образованиями, следовательно, ранее, безусловно, существовало большое племя кан-галасцев, из которого они выделились.
Кангаласцы до прихода русских людей обитали в основном по долине Эркээни на Средней Лене. По мнению Я. И. Линденау [1983], именно у них имелся «Тойон-ууса» – династийный род от прямого потомства Эл-лэя. Оказав сильное сопротивление русским властям, они вынужденно расселились по всей территории Якутии. Много кангалас-ских наслегов имеется в Вилюйских улусах, в Верхоянском, Олекминском, Колымском и Абыйском, Момском районах. Существовали также 7 родов кангаласских тунгусов, составивших основу амурских и китайских эвенков [Туголуков, 2013].
По родословной, у Тыгына был родной брат по имени Малдьагар. В эпоху «кыргыс кэмэ» (войн) малдьагары активно сопротивлялись владыке кангаласцев Тыгыну. Однако предания в качестве прародителя этого рода называют тунгуса Мольду. Как этноним он может иметь различные объяснения. Ф. Ф. Васильев выводил его от маньчжуров [1995]. Ранее нами данный этноним сравнивался с известным восточным обозначением племени мадьяр – Маджгар. Мальжегарские наслеги имелись в Вилюйских улусах и в Олекминском районе.
Население Накарской волости – нахарцы, считались частью кангаласцев. Кровавые наахарцы – это любимые герои якутского фольклора. Они занимали таежную зону нынешнего Мегино-Кангаласского улуса, примыкая к амгинским бетюнцам. Часть территории Восточно-Кангаласского улуса занимали Нахарская и Емконская волости.
По словам Ф. Г. Сафронова к Западно-Кангаласскому улусу относились Бордон-ская, Гурменская и Жарханская волости [Сафронов, 1987. С. 11].
Бордонская волость получила свое название от имени кангаласского князца Бой-дона (Түүлэх тү ҥ үрдээх Бордо ҥ ), бежавшего в 1634 г. с конным отрядом от казаков И. Галкина в горы Вилюя и скрывавшегося там. Гурменская волость, согласно Б. О. Долгих [1960], состояла из тунгусов. Тем самым подтверждаются сведения якутского фольклора о бегстве тунгусов с Вилюя и присоединении к кангаласцам. Ярканскую волость Б. О. Долгих причислял к Кангалас-скому улусу. К приходу русских людей яр-канцы обитали на Средней Лене. Под напором сборщиков ясака они переместились на Вилюй. Вилюйчане считают себя потомками бабушки Дьаардаах, в имени которой угадывается этноним дьаархан. Согласно Я. И. Линденау, Джархан была женой владыки кангаласцев и всего якутского народа Мунньана [Линденау, 1983].
Таким образом, настоящие кангаласцы – это потомки людей князцев Бойдона и сыновей Джархан, образовавших впоследствии основу Сунтарского и Нюрбинского улусов. Однако Бойдон считается предводителем бордонгцев, т. е. антропоним – имя человека, могло происходить от названия рода, а не наоборот.
Одейская и Одугейская волости, по мнению Ф. Г. Сафронова, принадлежали к За-падно-Кангаласскому улусу. Обычно род Үөдэй (Одей) считается намским. Үөдүгэй (Одугей) – возможно, увеличенный вариант этнонима Үөдэй (Одей).
К Мегинскому улусу принадлежали следующие волости: Морукская, Долдунская, Мальжагарская, Холгуминская, Сыланская, Хоринская, Тулагинская, Мельжахсинская, Алагарская, Бахсынская, Женхадинская [Сафронов, 1987. С. 13].
Мегинская волость располагалась на правом берегу Лены по р. Суола, на востоке до р. Таатты. Вхождение в состав России мегинцы перенесли сравнительно безболезненно. В общеякутском ополчении они принимали участие, но не претендовали на главенство в нем в отличие от бетенгцев, кангаласцев и намцев. Название этого наиболее населенного улуса воспроизводится от слова «мэнэ» – «вечный». Именовали себя Мэнэ «оседлые», или «таежные» пешие тунгусы-ламуты Охотского моря (будущие эвены). Это название характеризует мегин-цев как таежный род, живущий в окружении леса, большого озера Тенгелю, больших рек и обширных равнин «сысыы». Именно здесь рыбачил легендарный богатырь Майагатта Бэрт Хара – одинокий рыбак и охотник, противостоявший Тыгыну.
К Намскому улусу относились Одейская, Бетюнская, Модутская, Хатырыкская, Ча-чынская (Чочуйская), Баяназейская и Ха-хунская волости.
Намцы, обитавшие в долине Энсиэли, считаются потомками Омогоя. Я. И. Линде-нау считал их потомками племени боотулу. По его данным, начало роду дал сын Омогоя по имени Булгудьалды. Собственный род Омогоя носил название Энэсиэли (по имени жены) [Линденау, 1983]. В нем мы угадываем название Енесильской волости, которая отдельно упоминается в списке Парфена Ходырева. Энэсиэли – название лошадиного бега рысью. По Г. Ф. Миллеру и старым фольклорным источникам, намцы не проводили праздник Ысыах и не поклонялись Орлу – Хотой Айыы, почитая божество Татаар [Элерт, 2001].
Этноним Нам, возможно, имеет антропонимическое происхождение. В фольклоре упоминался старик Нам, а его сын – знаменитый Мамык (Мымах) писался как Мамык Намов. Именно он возглавлял общеякутское ополчение в событиях 1634 и 1642 гг. Семантика этнонима также имеет двоякое объяснение – на основе тунгусского и монгольского языков. У тунгусов Прибайкалья имелись роды под названием намясинцы, намягиры. Они были конными и откочевали от притеснений ясачных сборщиков за цин-скую границу. Их название происходит от эвенского наму, ламу («морские»). Подобное объяснение усиливается тем, что прародителем улуса считался сын Эллэя белый шаман Ламынха силик (или Лабынгха Сююрюк).
Безусловно, в именах прародителей крупных родов зафиксированы древние этнонимы – названия племен, от которых произошли якуты. Так, антропоним ламынха похож на этноним ламунха, ламут – обозначения эвенов. Есть и еще более удачное объяснение этнонима намясин, намягир – от монгольского слова «нам» (тысяча). Возможно, он происходит от обозначения войскового подразделения.
Борогонская волость известна тем, что ее население активно помогало русской администрации. Предводитель борогонцев Легей Тойон придерживался «прорусской» политики и пытался отговаривать восставших якутов от намерения осаждать Якутский острог. Возможно, в списке якутских родов П. Бекетова упоминалась именно Борогон-ская волость. Фигурировала она и как Подгородная волость. Видимо, Ленский острог сначала стоял на территории Борогонского улуса. Имя князца Легоя просматривается в названии Легойской волости. Первым Легоем считается поселок Кэптэни, вторым Легоем – Тулуна. К Борогонскому улусу приписывались Оспекская, Бескунская, Че-риктейская, Баягантайская, Олтекская области [Сафронов, 1987. С. 13].
Дюпсинская волость в XIX в. отделилась от Борогонского улуса и стала отдельным улусом. Располагалась в низовьях Алдана, на его левом берегу, у места впадения в Лену и занимала благодатные равнины – «сы-сыы». Славились богатырями Солук Боотур, Мюлдью Бёгё, Cуор Бугдук, являвшимися сыновьями старухи Кютюр Эмээхсин («Сердитая Бабушка»). Отдельно упоминается и Чериктейская волость. Ныне пос. Чэ-риктэй находится на левом берегу Алдана (ранее входил в состав Дюпсинского улуса, в советское время – совхоза). Я. И. Линде-нау упоминал род Чэриктэй в составе восьми якутских родов в степях вокруг Байкала. Они, по его мнению, происходят от сыновей Эллэя – Чэриктэя и Арбыдая [Линденау, 1983]. В этом списке дюпсинцы не фигурируют, следовательно, они произошли от чэ-риктэйцев, а не наоборот. На территории будущего Дюпсинского улуса располагалась и Чумецкая волость [Сафронов, 1987. С. 11]. Видимо, это туматы, род, существовавший в составе Онерского (Өнөр) наслега. Дюпсин- ский улус составили Онерская, Батагайская, Оспекская волости, ранее входившие в состав Борогонского улуса.
Еспекская волость получила свое название по имени дюпсинского князца Ёспёха, возглавившего сопротивление отряду П. Бекетова. В XIX в. ёспёхи входили в состав Дюпсинского улуса, занимая берег Алдана. Впоследствии выходцы из этой волости образовали наслеги Ёспёх и Найахы. Упоминается также Батагайская волость. Ныне существует пос. Батагай в Усть-Алданском районе. Поселки и роды Батагай, Ёспёх в Верхоянском округе и у оз. Ессей в Эвенкии были образованы выходцами из этих волостей.
Из множества самостоятельных родов, упоминаемых в XVII в. в качестве отдельных волостей, образовался Батурусский улус. К нему были приписаны Ожелунская, Чакырская, Сыланская, Бетюнская, Скоро-ульская, Игидейская, Баягантайская, Хаях-сытская области [Сафронов, 1987. С. 13]. Но на месте будущего Батурусского улуса в XVII в. перечисляются следующие волости: Катылинская, Балагурская, Жексогонская и Тарасинская. По предположению Б. О. Долгих, в Батурусскую волость в XVII в., упоминаемую отдельно от Хатылынской и Ба-тулинской волостей, вошли бологуры, жексогонцы, телейцы, тыарасынцы, жулей-цы, хаяхсыты [Долгих, 1960. С. 363].
Из числа наслегов в Батурусский улус вошли пять бологурских и семь хатылин-ских и помимо них еще шесть наслегов, которые основали потомки прежнего Бату-линского рода – Хадаар, два Чакыра, Хоп-то ҕ о (прежние батулинцы-каптуги), Одьу-луун, Хайахсыт [Боло, 1994. С. 328].
Главными из них были хатылинские наслеги (Хатылы), затем получившие название Батурусских. В XIX в. Батурусский улус распался на три самостоятельных улуса: Чу-рапчинский, Амгинский и Тааттинский.
Сыланская волость существовала на территории будущего Чурапчинского улуса. По сведениям сказителей прародитель сылан-цев Ураанай Боотур жил в яме задолго до прибытия Омогой Баая и Эллэй Боотура на Среднюю Лену [Боло, 1994].
Бетюнгская волость сначала входила в состав Намского улуса, где имелся Бетюнг-ский наслег. После поражения от отряда П. Бекетова население волости бежало в пределы будущего Амгинского улуса. Бе- тюнгцы больше всех пострадали от действий казачьих атаманов П. Бекетова и В. Пояркова. Свободолюбивые, непокорные бетюнгцы разбрелись по таежным окраинам Ленского края и в итоге были ассимилированы тунгусами. Так появились роды Бети в составе тунгусов и ессейских якутов. От них производят петайцев в составе юкагизиро-ванных тунгусов и тунгусскую Бутальскую волость по рекам Томпо и Мая.
Батулинская волость располагалась на территории Батурусского улуса. Батулин-цы – это прямые потомки Омогой Баая. Согласно Я. И. Линденау, Омогой жил на Верхней Лене и возглавлял наиболее сильный в тех местах род – Боотулу (в русской транскрипции – батулинцы). Действительно, батулинцы зафиксированы среди бурят в качестве крупного объединения родов. Они выступали вместе с хоринцами – «коринцы и батулинцы», а также совместно с була-гатами.
От батулинцев отделилась Ексогонская волость (правильнее Жексогонская, в якутской транскрипции – Дьохсогон). Сын старика Дьохсогон Кээрэкээн – летописный батулинский князец Нарекан, откочевал со всем своим родом с ленского острова Кыыллаах Арыы на дальнюю речку Таатта, опасаясь соседства с русскими казаками. Прибыв на Таатту, Кээрэкээн выдвинул ультиматум главе баягантайцев: «Либо сразитесь, либо станьте нашими рабами» [Ксенофонтов, 1977]. Последовало сражение, проигравшие баягантайцы частично влились в состав Тааттинского улуса.
В XVII в. в архивных документах упоминаются в качестве отдельных волостей ба-тулинцы-каптуги и чакыры. Предки трех других наслегов современных батулинцев – Хадарского, Сулгачинского и Кугдинского, в XVII в. не упоминаются [Долгих, 1960. С. 376]. Представители этих родов (будущих наслегов Хадаар, Сул ҕ аччы, Кугда, Хопто ҕ о и Чакыр) и составляли Батулин-скую волость в XVII в.
Таким образом, на территории будущего Батулинского улуса проживали два бату-линских рода. Это предки тааттинцев – жек-согонцы и отдельно от них Батулинская волость, еще до прихода русских людей располагавшаяся на месте будущего Амгин-ского улуса. Многие исследователи ошибочно считают будущих тааттинцев – жексогонцев, Батулинской волостью XVII в.
Однако Батулинская и Жексогонская (иногда Тааттинская) волости упоминаются отдельно. Тааттинцы (бывшие жексогонцы) получили свое имя, как уже упоминалось, от названия р. Таатта.
Игидейская и Баягантайская волости уже в XVIII в. образовали Баягантайский улус. Баягантайцы – один из старейших якутских родов. Как и батулинцы, они считаются потомками Омогоя. Именно баягантайцы мигрировали в Оймякон, а оймяконцы упоминаются как Емеконская волость. Чечуй-ская, Оргутская, Олесская и Тагусская волости располагались на территории Кобяй-ского улуса.
Подводя итоги рассмотрения изложенных материалов, отражающих сложную картину этнических процессов и миграций на территории Якутии, можно сделать вывод о том, что в начале XVII в. не существовало территориально-административного разделения якутов на улусы. Приведенное в этом отношении сообщение И. Галкина можно считать исключением, связанным с инерцией мышления, сложившегося в русской административной сфере еще до прихода первопроходцев на Лену. Нет оснований считать, что якутские волости были клановыми образованиями – они шире, чем кровнородственная семья. Определение «волость» в то время более всего соответствовало понятию «род», хотя наиболее крупные роды кангаласцев, бётёнгцев, мегинцев, ба-тулинцев, борогонцев, намцев, баягантайцев и дюпсинцев правильнее было бы назвать племенами. Бётёнгцы и батулинцы в XVII в. были наиболее крупными якутскими родами, разгром их казаками привел к миграции на дальние окраины.
Происходило разделение крупных родов на новые антропонимические образования, называвшиеся по именам князцов, их возглавлявших, например: ёспёхи, лёгёйцы, бордонгцы. Судя по легендам, такое же антропонимическое происхождение имели намцы, жарханцы, нахарцы, бологурцы. Бо-рогонцев, баягантайцев, кангаласцев, нам-цев, мегинцев, батурусцев, дюпсинцев можно отнести к родовой структуре народа саха, как и атамайцев, сыланцев, нахарцев, не-рюктэйцев, бологуров.
Список литературы Якутские волости в 30-40-х годах XVII века
- Боло С. И. Прошлое якутов до прихода русских на Лену (по преданиям якутов бывшего Якутского округа). Якутск: Бичик, 1994. 320 с.
- Васильев Ф. Ф. Военное дело якутов. Якутск: Бичик, 1995. 220 с.
- Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 622 с.
- Иванов М. С. Дойду сурахтаах, алаас ааттаах (Топонимы Якутии). Якутск: Якут. кн. изд-во, 1982. 232 с.
- Иванов М. С. Топонимика Якутии (Краткий научно-популярный очерк). Якутск: Якут. кн. изд-во, 1985. 144 с.
- Ксенофонтов Г. В. Эллэйада: Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. Новосибирск: Наука, 1977. 246 c.
- Линденау Я. И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII века): Историко-этнографические материалы о народах Сибири и Северо-Востока. Магадан: Магадан. кн. изд-во, 1983. 176 с.
- Материалы по истории Якутии XVII века (Документы ясачного сбора). М.: Наука, 1970. Ч. 1. 470 с.
- Парникова А. С. Расселение якутов в XVII - начале XX вв. Якутск: Якут. кн. издво, 1971. 152 с.
- Сафронов Ф. Г. Мирское управление в XVII - начале XX века. Якутск: Якут. кн. изд-во, 1987. 128 с.
- Туголуков В. А. Эвенки Восточной Сибири и Дальнего Востока. Красноярск: ИД «Сибирские промыслы», 2013. 352 с.
- Элерт А. Х. Новые материалы о пантеоне якутских божеств и духов в первой половине XVIII века (статья первая) // Общественное сознание и литература XVI-XX вв.: Сб. науч. тр. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. С. 107-124.