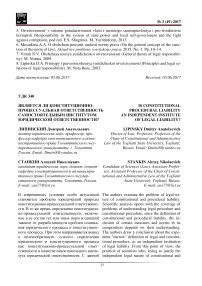Является ли конституционно-процессуальная ответственность самостоятельным институтом юридической ответственности?
Автор: Липинский Дмитрий Анатольевич, Станкин Алексей Николаевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 3 (49), 2017 года.
Бесплатный доступ
В современных условиях особо актуальной становится проблема юридической природы конституционно-процессуальной ответственно-сти. В то же время, определение конституционно-процессуальной ответственности, включение в ее состав тех или иных норм и санкций зависит от разработанности проблем понимания юридического процесса и конституционного процесса. При этом напрашивается вывод о целесообразности «узкого» определения юридического и конституционного процесса как конституционно-процессуальной ответственности в качестве самостоятельного института юридической ответственности. С данной точки зрения, позиция ученых, которые, стремясь обосновать самостоятельную юридическую природу конституционно-процессуаль-ной ответственности, относят к ней меры, ей не свойственные, нивелируя тем самым конституционную ответственность, не выдерживает критики. Наоборот, если исходить из узкого понимания юридического процесса и конституционного процесса, то можно заключить, что конституционно-процессуальная ответственность как самостоятельный институт юридической ответственности находится только в стадии формирования. В настоящее время можно только утверждать о существовании субинститута конституционно-процессуальной ответственности, являющегося частью института конституционной ответственности. Определение конституционно-процессуальной ответственности, исходя из широкого понимания юридического и конституционного процесса, фактически нивелирует саму конституционную ответственность, так как происходит практически полный перенос традиционных мер конституционной ответственности в конституционно-процессуальные.
Юридическая ответственность, конституционно-процессуальная ответственность, правонарушение, конституционный процесс, юридический процесс, виды юридической ответственности
Короткий адрес: https://sciup.org/142233887
IDR: 142233887 | УДК: 340
Текст научной статьи Является ли конституционно-процессуальная ответственность самостоятельным институтом юридической ответственности?
Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-33-00017 «Комплексный, межотраслевой институт юридической ответственности: понятие, структура, взаимосвязи и место в системе права».
Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Соответственно, в юридической литературе принято утверждать о существовании конституционного, гражданского, административного и уголовного правосудия, а также соответствующих видов юридического процесса. Любой вид юридического процесса должен быть защищен при помощи различных правовых средств (юридической ответственности и юридических мер защиты). В настоящее время как действующее законодательство, так и научные исследования свидетельствуют о том, что обособились и сформировались институты уголовнопроцессуальной и гражданско-процессуальной ответственности, находятся в стадии формирования административно-процессуальная ответственность, а налогово-процессуальную ответственность рассматривают как субинститут налоговой ответственности [1, 2, 3]. Таким образом, в действующей системе права происходят процессы специализации правовых институтов. Так, А.А. Бессонов подразделяет процессуальную ответственность на административно-

процессуальную, уголовно-процессуальную, гражданско-процессуальную и конституционнопроцессуальную [4]. Фактически он пишет о ней как о сложившемся правовом институте.
Однако прежде чем рассматривать проблему становления института конституционнопроцессуальной ответственности необходимо обратиться к самому понятию конституционного процесса, так как от его определения зависит и понятие процессуальной ответственности. Ряд теоретиков права полагают, что юридический процесс есть везде, где присутствует та или иная юридическая процедура [5]. В связи с чем выделяются лицензионный, контрольный, надзорный, законодательный процесс [6]. Другие ученые понятие юридического процесса связывают с конфликтом, со столкновением интересов и наличием спора [7]. Таким образом, сам процесс подразделяется на позитивный и негативный.
В сфере права понятие процесса всегда связано с разбирательством спора, а при реализации компетенции государственного органа (позитивном процессе) спор в правовом смысле отсутствует. В случае отсутствия спора уполномоченный государственный орган действует в рамках не юридического процесса, а материально-правовой процедуры его функционирования. На наш взгляд, не везде, где есть процедура, на самом деле существует юридический процесс. Широкое понимание юридического процесса фактически размывает его рамки и границы. Кроме того, оно не согласуется и с классическими принципами юридического процесса, а именно: равноправием сторон, участвующих в споре; право на защиту и так далее. Думаем, что никто не будет спорить с утверждением, что в процессе, например, лицензирования стороны являются неравноправными, когда с одной стороны находится орган государственной власти, а с другой – физическое или юридическое лицо. Признание широкого понимания юридического процесса безгранично расширяет и сам возможный перечень мер юридической ответственности, переводя в их число сугубо материально-правовые, а не процессуальные мер ответственности. Мы являемся сторонниками именно узкого понимания юридического процесса. Широкое понимание юридического процесса фактически «размывает» и сам институт процессуальной ответственности, делая его практически не отграничимым не только от материально-правовых институтов юридической ответственности, но и от юридических мер защиты. Так, А.А. Павлушина, рассматривая процессуальную ответственность с широких позиций, отмечает, что «процессуальная ответственность всегда может быть понимаема лишь в границах защиты права. Это не кара или наказание, не мера правовосстановле-ния, это всегда неблагоприятное в процедурном отношении последствие» [8, с. 419]. Понятие «неблагоприятное последствие» размывает грани между мерами защиты и мерами юридической ответственности, так как те или иные неблагоприятные последствия для субъекта могут наступать и в случае применения юридических мер защиты. Например, в результате принудительного привода может ограничиваться свобода передвижения субъекта, но привод не мера процессуальной ответственности, а мера облесения функционирования процесса, которая в свою очередь является разновидностью более широкой категории – мер защиты. При этом меры защиты присутствуют как в материальном, так и в процессуальном праве.
Отражением теоретических воззрений о понятии юридического процесса являются отраслевые (конституционные) научные позиции о самом понятии юридического процесса. И вопрос о «широте» понимания конституционной ответственности находится в плоскости «широты» понимания конституционного процесса. Например, Ж.И. Овсепян связывает конституционный процесс с функционированием института конституционной юстиции [9, с. 212]. По мнению С.А. Авакьяна, «процессуальных аспектов в работе палат парламента, избирательных комиссий ничуть не меньше, чем в органах конституционной юстиции» [10, с. 54]. Л.С. Жакаева считает, что «конституционный процесс – это деятельность уполномоченных органов и должностных лиц, направленная на реализацию конституционно-правовых норм в виде правоприменения, при котором субъекты руководствуются как нормами материального, так и процессуального содержания одновременно, то есть указанная деятельность направлена на анализ возникшей правовой ситуации и ее разрешение с использованием единой (материально-процессуальной) правовой базы» [11, с. 212].
-
В.В. Бородин рассматривает конституционный процесс как систему «правовых норм и процедур, регулирующих порядок подготовки, разработки, принятия и вступления в силу конституции (основного закона), изменения, пересмотра и прекращения действия конституции, а также обеспечения эффективного функционирования основных конституционных институтов в течение всего срока действия конституции» [12, с. 212].
По мнению А.П. Викулова, конституционный процесс представляет собой совокупность всех государственных процессов и факторов, влияющих на них, в самом широком смысле [13, с. 11]. Несколько уже трактует конституционный процесс Р.А. Хакимов, сводя его сущность к процессу внесения поправок в Конституцию РФ и текущее конституционное законодательство [14, с. 11]. Другие ученые считают, что «под конституционными процессами следует понимать не только правотворчество в развитии норм Конституции РФ, но и решения Конституционного суда РФ, а также сложившуюся конституционную политикоправовую практику» [15, с. 451].
Для определения самостоятельной природы того или иного института юридической ответственности всегда обращаются к вопросу о самостоятельности той или иной отрасли права. Поэтому считаем необходимым рассмотреть вопрос о конституционно-процессуальном праве. Так, в науке конституционного права нет единства мнений относительно места конституционно-процессуального права в системе права. Т.Д. Зражевская полагает, что в структуре конституционного права следует выделять подотрасль конституционного процесса [16]. По мнению М.С. Саликова, идет формирование новой отрасли отечественного права - конституционнопроцессуального [16, с. 50]. При этом конституционный процесс охватывает законодательный, избирательный, правотворческий, парламентский и иные виды процессов, но не сводим ни к одному из них. Соответственно, учеными выделяется восемь блоков общественных отношений, которые включают в себя конституционный процесс: «конституционный процесс (конституционный законодательный процесс); конституционно-процессуальные основы правого положения личности; федеративный процесс; административно-территориальный процесс; избирательный процесс и процедура референдума («референдумный» процесс); конституционные процедуры осуществления государственной власти и местного самоуправления; законодательный процесс; конституционно-судебный процесс» [18, с. 50].
Таким образом, можно выделить широкий и узкий подход к определению конституционного процесса. Согласно первому, под конституционным процессом понимается деятельность высших органов государственной власти, протекающая в формах, установленных нормами конституционного права; процесс развития и усовершенствования всех конституционно-правовых институтов. Согласно второму подходу, конституционный процесс сводится к деятельности органов конституционной юстиции, в данном случае Конституционного Суда РФ, а также Конституционных и Уставных судов субъектов РФ. Но так или иначе конституционное процессуальное право в случае его широкого понимания выступает в качестве подотрасли конституционного права, а в случае «узкого» его можно рассматривать только как соответствующий институт конституционного права, ввиду относительно небольшой группы общественных отношений, которые регулируются соответствующими нормами.
Представляется, что споры относительно понимания конституционного процесса будут идти долго. Полагаем, что конституционный процесс (в любом его понимании) должен быть защищен мерами юридической ответственности и не обязательно конституционнопроцессуальной. Многие отрасли права обеспечивают выполнение предписаний своих норм при помощи норм с иной отраслевой принадлежностью. Если конституционный процесс не будет обеспечен эффективными мерами юридической ответственности, то ставится под вопрос его действенность и эффективность. Другой вопрос, какие это меры юридической ответствен-
ности, конституционно-процессуальной или иные. Конечно, с позиции формальной логики может последовать вывод о наличии у каждого вида конституционного процесса собственных институтов юридической процессуальной ответственности. Однако при таком подходе возникает вопрос, а что же остается от конституционной ответственности? Так, Е.В. Чуклова, полагает, что в сфере «законодательного процесса к конституционно-процессуальной ответственности можно отнести санкции, применяемые в отношении членов парламента, а именно: предупреждение, выговор, временное отстранение от участия в работе парламента, налагаемые спикером палаты» [19, с 114]. Межу тем, эти меры относят и к мерам конституционной ответственности [20, с. 390]. Известный правовед Н.В. Витрук полагал, что «утрата юридической силы законом, признанным неконституционным по данному основанию, может рассматриваться как конституционно-процессуальная ответственность всех участников законодательного процесса - палат Федерального Собрания РФ и Президента РФ [21, с. 390]. С этим сложно согласиться, поскольку в указанном случае участники законодательного процесса не несут каких-либо неблагоприятных последствий (за исключением репутационных).
Различные нарушения процедурных правил при реализации избирательного процесса также исследователи считают мерами конституционной ответственности [22, с. 131]. Существуют и научные позиции, согласно которым федеративная ответственность является самостоятельным видом юридической ответственности. Вот и получается, что конституционную ответственность буквально «разобрали» на отдельные составляющие, обосновывая самостоятельность каждого вида ответственности. Такая ситуация несколько напоминает ситуацию со стремлением обосновать новые отрасли права. К примеру, в литературе отмечается, что существуют как самостоятельные отрасли налоговое, бюджетное, публичное банковское и страховое право. Тогда возникает вопрос, а что же осталось в составе финансового права как отрасли права.
В дальнейшем мы обоснуем нашу позицию о том, что конституционно-процессуальная ответственность является субинститутом конституционной ответственности, а утверждать о ее самостоятельности как вида юридической ответственности в настоящее время еще рано, а пока отметим, что существуют и диаметрально противоположные точки зрения по данной проблеме. Например, Г.И. Молев и Г.В. Молева делают вывод, что «согласно мнению большинства исследователей, оснований для выделения конституционно-процессуальной ответственности, как самостоятельного вида, не существует. Она представлена только позитивными, но не ретроспективными аспектами, что не позволяет говорить об ее окончательном оформлении. Так, не предусмотрено ответственности за нарушение процедуры принятия законов, неисполнение Постановлений Конституционного Суда РФ о приведение в соответствие с Конституцией нормативно-правовых актов и т. п. Кроме того, пишут авторы, в ст. 54 ФКЗ РФ «О Конституционном Суде РФ» дан перечень только некоторых нарушений конституционного процесса и мер ответственности» [23, с. 128]. На наш взгляд, мы указали две диаметрально противоположные научные позиции. От чрезмерного расширения конституционно-процессуальной ответственности, когда она выходит за привычные рамки процесса, связанного с разрешением спора, до полного его отрицания. Кроме того, позиция Г.И. Моле-ва и Г.В. Молева спорна еще и тем, что они связывают конституционно-процессуальную ответственность и с процедурой принятия нормативных правовых актов, то есть с позитивным юридическим процессом, исходя из того, что процесс существует везде, где есть юридическая процедура. По всей видимости исходя из аналогичных позиций рассуждает Е.В. Чуклова, отмечая, что «необходимо законодательно защитить конституционный процесс, а также исходя из того, что ту роль, которую в судах играет судопроизводство, в законодательных органах играют распорядок дня и регламент, необходимо установить круг нарушений распорядка дня и регламента, а также меры ответственности за эти нарушения. Одним из средств воздействия на нарушителей законодательного и конституционного процесса может стать конституционно-процессуальная ответственность» [24, с. 128]. Не выдерживает критики позиция Л.С. Жа- каевой, полагающей что «применительно к конституционному праву, процессуальной ответственности не может быть, ибо она не может существовать вне материально-правовых отношений, в противном случае необходимо было бы признать юридическую (функциональную) самостоятельность процессуальных норм, их независимость от материальных норм» [25, с. 14]. Во-первых, остается не ясным, почему автор ставит знак равенства между функциональной самостоятельностью и юридической самостоятельностью процессуальных норм. Во-вторых, строго говоря, и материальные нормы зависят от процессуальных, так как в совокупности они представляют собой сложную систему права. В-третьих, наличие процессуальных отношений, еще не означает, что одновременно не может возникнуть материальное правоотношение, связанное с применением тех или иных мер процессуальной ответственности.
Если обратиться к ФКЗ РФ № 1-ФКЗ от 21.07.1994 года «О Конституционном суде РФ» то в статье 54 подчеркивается: «присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться к Конституционному Суду Российской Федерации и принятым в нем правилам и процедурам, подчиняться распоряжениям председательствующего о соблюдении распорядка заседания» [26, с. 128]. В качестве возможных нарушений законодатель называет нарушение порядка в заседании или не подчинение законным распоряжениям председательствующему, а санкциями выступаю предупреждение и штраф в размере до одной тысячи рублей. В статьях 63 и 64 (заключение эксперта и показания свидетелей) закреплены стандартные формулировки о предупреждении об ответственности за дачу заведомо ложных заключений и заведомо ложных показаний свидетеля. Причем законодатель не делает оговорок как КоАП, в котором указывается, что за дачу заведомо ложных показаний, а эксперт заключения в административном процессе они привлекаются к административной ответственности. Логически следует вывод, что в данном случае речь идет о предупреждении об уголовной ответственности, которая предусмотрена статьей 307 УК РФ. Однако если говорить об институте конституционно-процессуальной ответственности, то данная норма не входит в содержание этого института, так как беспрепятственная реализация конституционного правосудия может обеспечиваться нормами с различной отраслевой принадлежностью. В данном случае можно лишь утверждать о наличии функциональных связей с различными отраслями права.
Вернемся непосредственно к вопросу о существовании конституционно-процессуальной ответственности. Действительно примерный перечень конституционных правонарушений, количество санкций представлены в указанном выше законе очень «скромно». Однако если сравнить их с перечнем (видами) санкций, которые предусмотрены в гражданском процессе, уголовном процессе, то он не на много шире санкций, которые предусмотрены за нарушение процедурных правил рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ. В связи с чем возникает вопрос, почему мы считаем уголовно-процессуальную и гражданско-процессуальную, а также административно-процессуальную ответственность самостоятельными институтами юридической ответственности, а конституционно-процессуальную нет. Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к самим критериям выделения институтов юридической ответственности из сложной системы юридической ответственности. При этом не следует смешивать такие понятия как «видовой институт юридической ответственности» и «вид юридической ответственности», так как критерии их выделения различные. В основе разграничения видовых институтов юридической ответственности находятся несколько взаимосвязанных критериев. Во-первых, самостоятельность той или иной отрасли права, которая включает в свой состав относительно обособленный институт юридической ответственности. Во-вторых, предмет и метод правового регулирования. В-третьих, наличие кодифицированного нормативного правового акта. В-четвертых, особенности мер ответственности и порядка их применения. В-пятых, «удельный вес» (количество) норм юридической ответственности, которые выступают первичным элементом в структуре института юридической ответственности. Данные критерии необходимо рассматривать в совокупности, принимая во внимание, что первые два являются основными, а

остальные производными (дополнительными). Здесь мы и сталкиваемся с тем, что как таковое конституционно-процессуальное право как самостоятельная отрасль права отсутствует, нет и кодифицированного нормативного акта, посвящённого конституционному правосудию. В принципе одно взаимосвязано с другим, так как наличие кодифицированного нормативного правового акта относят к дополнительному критерию, который свидетельствует о самостоятельности той или иной отрасли права. Далее, сами меры ответственности за нарушение конституционного процесса носят достаточно унифицированный характер и сложно говорить об их особенностях и специфике, а также нет какой либо уникальности в порядке их реализации. И наконец, как уже отмечалось, сам удельный вес подобного рода норм достаточно не большой и отсутствует как таковая сложная, взаимосвязанная и развитая система норм конституционной процессуальной ответственности.
Итак, исходя из узкого понимания юридического процесса и конституционного процесса, можно заключить, что конституционно-процессуальная ответственность как самостоятельный институт юридической ответственности находится только в стадии формирования. В настоящее время можно только утверждать о существовании субинститута конституционнопроцессуальной ответственности, являющегося частью института конституционной ответственности. Определение конституционно-процессуальной ответственности, исходя из широкого понимания юридического и конституционного процесса фактически нивелирует саму конституционную ответственность, так как происходит практически полный перенос традиционных мер конституционной ответственности в конституционно-процессуальные. Система юридической ответственности как и система права не является застывшим образованием, а изменение общественных отношений, принятие новых нормативных правовых актов приводит и к становлению новых институтов юридической ответственности. Возможно по прошествии определённого периода времени аналогичное исследование приведет уже к выводу о самостоятельной юридической природе конституционно-процессуальной ответственности.
Список литературы Является ли конституционно-процессуальная ответственность самостоятельным институтом юридической ответственности?
- Липинский Д.А., Чуклова Е.В. Процессуальная ответственность. М.: Юрлитинформ, 2013.
- EDN: PZYMIF
- Новиков А.Г. Гражданская процессуальная ответственности: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 2002.
- EDN: NMEKQT
- Гальперин М.Л. Ответственность в современном гражданском судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2009.
- EDN: NLAMCB
- Бессонов А.А. Процессуальные нормы российского права: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001.
- EDN: NLYHYP
- Павлушина А.А. Теория юридического процесса: проблемы и перспективы развития: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Самара, 2006.