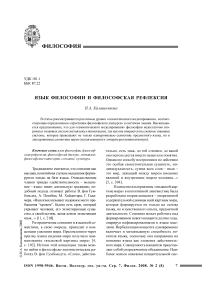Язык философии и философская рефлексия
Автор: Калашникова Нина Александровна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные уровни «семиотического моделирования», соответствующие определенным «архетипам философского дискурса» и системам знания. Высказывается предположение, что для «семиотического моделирования» философии недостаточно вторичных знаковых систем (метаязыка и коннотации), так как она опирается на сложные знаковые системы, которые превышают не только одноуровневую семиотику предметного языка, но и двухуровневые семиотики науки (матаязыковую) и литературы (коннотативную).
Язык философии, философская рефлексия, философский дискурс, метаязык, философские категории, сознание, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14974259
IDR: 14974259 | УДК: 101.1
Текст научной статьи Язык философии и философская рефлексия
Традиционно считается, что сознание как высшая, понятийная ступень мышления формируется только на базе языка. Отождествление членов триады «действительность – мышление – язык» имеет длительную традицию, подобный подход отличает работы В. фон Гумбольдта, А. Потебни, М. Хайдеггера, Г. Гада-мера. «Наш язык называет надежное место пребывания “кровом”. Бытие есть кров, который укрывает человека, его экзистирующее существо, в своей истине, делая домом экзистенции язык...» [11, с. 218].
Разграничение сознания и языковой семантики, в свою очередь, приводит к концепции удвоения мира. Преломленное через призму языка видение мира получило наименование «языковой картины мира» [4, с. 102]. Истоки этой концепции также можно найти в философско-лингвистических работах В. фон Гумбольдта. «Слово, действи- тельно, есть знак, до той степени, до какой оно используется вместо вещи или понятия. Однако по способу построения и по действию это особая самостоятельная сущность, индивидуальность; сумма всех слов – язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека...» [5, с. 304].
В качестве альтернативы «языковой картине мира» в когнитивной лингвистике была разработана теория концепта – оперативной содержательной единицы всей картины мира, которая формируется не только на основе языка, но и чувственного опыта, предметной деятельности. Сознание может работать над формированием нового концепта долгие годы, оперируя нефиксированными в языке мыслями. Вербализация концепта одновременно включает и метаязыковую способность носителя языка, поскольку она направлена на познание языка как элемента действительного мира. Совокупность концептов представляет собой упорядоченное объединение. Наиболее полное описание концептуальной сис- темы было дано в работах Р.И. Павилениса [8, с. 12].
Таким образом, язык есть формальное условие мысли – понятийного и общезначимого содержания человеческого сознания, языковое значение есть символическая условность, основание и инструмент мысли, которое не должно подменять референциальное значение, то есть саму мысль.
Особенность языка философии, по сравнению со всеми существующими естественными и искусственными языками, состоит в том, что он представляет собой максимально возможный по отношению к любому другому теоретическому языку метаязык. Метаязык не порождает новые смыслы, он содержит новые искусственные термины, необходимые для описания исходного языка.
Если согласиться, что духовная культура – область «символических форм», то всякая деятельность над культурным символизмом, будь то его описание, анализ, критика или что-либо иное, будет метасимволичес-кой деятельностью. Подобная деятельность характерна для философии: философия есть «метадискурс», предназначенный для описания и анализа символического. «Дискурс» – это «язык в языке», но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей «грамматики» и своего «лексикона», а прежде всего в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, в конечном счете – особый мир [9, с. 676].
Символы суть имена, средства описания метафизических объектов. «Символ... способ знания, что к одному есть другое. Здесь нет мысли о похожести....Указание на недостающее – вот символ в исходном понимании» [3, с. 403]. Если задать классификацию знаков по степени «денотативности», то «символы», репрезентирующие «метафизические» объекты, занимают самое крайнее положение, поскольку они вообще не имеют «физического» (чувственно данного) референта. Однако в отличие от функциональных «языковых фикций», или «пустых» знаков, они имеют «максимум» смысла. К этому типу знаков можно отнести «эйдосы» Платона, «врожденные идеи» Декарта, «идеи разума» Канта, «феномены» Гуссерля.
Неэмпирический (метафизический) характер «объектов» философствования задает особые процедуры работы с ними, отличные от методов научного познания. Такими методами выступают процедуры умопостижения, умозрения, которые одновременно являются процедурами порождения «мысленных конструктов». Структура философского рассуждения о «чистом бытии» принципиально отличается от рассуждений об объектах физического мира. «Философское слово необходимо потому, что оно почти единственное, что у нас есть, вместо отсутствующего мира» [9, с. 119]. Ни одна наука не полагает «Мир» в качестве собственного предмета. Предметом науки может выступать лишь некоторый аспект «Мира». Такого сущего, как «Мир», нет, он не дан людям в качестве чего-то общезначимого. Поскольку физический образ «Мира» невозможен, всякий его образ, всякая «картина мира» будет метафизической [2, с. 28–29].
Язык философии задает «априорные формы» любой языковой деятельности, будучи средством выражения Возможного, и тем самым участвует в самоописании культуры.
«Мышление никогда не имеет дела с изолированным предметом и никогда не нуждается в нем во всей полноте его реального бытия. Оно только создает связи, отношения, точки зрения и соединяет их» [5, с. 306]. Философская рефлексия образует уникальное единство индивидуального и всеобщего, личности и культуры, а философские категории «выступают в виде всеобщих форм членения предметного мира как сферы человеческого познания и действия», реализуясь через концептуальную сеть определенного методологического подхода к миру.
Категории философии всегда выступают как формы мировоззренчески нагруженного знания. В сфере общественной жизни «артикуляции действительности», которые в логически осознанном виде выступают как категории, приобретают практическую значимость. Философские категории служат необходимыми опорами выработки целостного взгляда на все окружающее человека, системообразующими регулятивами не только те- оретического знания, но и его практического действия [6, с. 15].
Метаязык философии является «семиотическим основанием» философской рефлексии. «Язык начинается непосредственно и одновременно с первым актом рефлексии, когда человек из тьмы страстей, где объект поглощен субъектом, пробуждается к самосознанию – здесь и возникает слово, а также первое побуждение человека к тому, чтобы внезапно остановиться, осмотреться и определиться» [5, с. 301]. Рефлексия – это повышение ранга «словомышления» или «мыслегово-рения», которое всегда связано с тем, что слову приписывается формальная ситуация «автомышления» [7, с. 100].
Считается, что важной функцией опирающегося на рефлексию теоретического сознания является функция экономии ресурсов и возможностей познающего разума. На данную функцию научной теории философы обращали внимание начиная с Э. Маха. Философию можно рассматривать как «предельное сжатие», предельное теоретическое обобщение человеческого опыта. Не случайно многие европейские философы обращаются к идее конечности человеческого разума. Философия порождена человеческой конечностью и является стремлением выйти за пределы этой конечности, поэтому ее можно трактовать в качестве преодоления границ понимания индивида [2, с. 5]. Философское «сжатие культурной информации» имеет индивидуальный характер, что коренным образом отличает философию как от мифа, опирающегося на безличные и нерефлексивные стереотипы восприятия и мышления, так и от наук, которые, хоть и рефлексивны, но имеют коллективный, дисциплинарный, стандартизированный в определенных стереотипах характер. Уровень индивидуально-всеобщего, уровень теоретической рефлексии, отвечающей философскому сознанию, имеющий мировоззренческое значение, заключающееся в возможности понимания мира как целого, может быть смоделирован в семиотиках третьего знакового уровня, схемы которых были предложены Р. Бартом.
Предполагается, что рефлексия осуществляется на трех уровнях, каждому из которых соответствует определенная «знаковая модель», а также определенный тип знания. «Первую рефлексию», направленную непосредственно на предметную реальность, олицетворяют все имеющиеся формы духовной культуры (например, наука, литература и т. д.), ее «знаковые основания» моделируются в семиотиках второго уровня, в то время как предметный язык характеризуют простые одноуровневые семиотики (означающее и означаемое связаны непосредственно и для своего понимания не требуют отсылки к другим «означающим и означаемым»). Двухуровневые семиотики подразделяются на метаязыковые и коннотативные, согласно Л. Ельмслеву. Коннотация порождает новые смыслы, а не знаки, поскольку использует знаки естественного языка. Коннотация – знак, отсылающий к «предмету как сложному знаку» другого предмета, отсылающего к смыслу. Метаязык включает такие двойные знаки, в которых уже означаемое (смысл, интенсионал) само является знаком (единством означающего и означаемого первичного языка). Метаязык порождает искусственные знаки, необходимые для описания языка-объекта. Метаязык – знак, отсылающий к «сложному смыслу» предмета, отсылающего, в свою очередь, к знаку другого предмета.
Философия представляет собой «вторую рефлексию», «рефлексию рефлексии», направленную на результаты первой. Для «семиотического моделирования» философии недостаточно вторичных знаковых систем – метаязыка и коннотации, она опирается на сложные знаковые системы, которые превышают не только одноуровневую семиотику предметного языка, но и двухуровневые семиотики науки (метаязыковую), литературы (коннотативную) и прочих форм культуры. Философию необходимо рассматривать не просто в качестве метаязыка, а в качестве «метаязыка метаязыка», то есть описываемая философией знаковая система сама уже должна быть метаязыком. Язык философии всегда находится в опосредованном отношении к естественному языку. А поскольку естественный язык становится собственным метаязыком прежде всего в грамматическом или логическом аспектах, то категориальное выражение именно данных аспектов часто становится объектом философской, теперь уже вторичной (по отношению к естественному языку) рефлексии, объектом «метаметаязыкового» описания и упорядочивания. Философское высказывание металингвистично и металогично. Для осуществления философской рефлексии, следовательно, необходим трансцензуз – выход за пределы обычных для культуры двухуровневых семиотик и связанных с ними форм рефлексии и коннотации, построение семиотики третьего уровня путем добавления нового языкового уровня, дополнительного метаязыка или дополнительной коннотации. Таким путем образуются разные «типы философского дискурса», так называемые «архетипы философствования»: 1) «философский анализ» – метаязык метаязыка, описание описания; 2) «философская критика» – метаязык коннотации, работа со смыслами, коннотациями культуры, в том числе и смыслами самой философии; 3) «метафизика» – коннотация метаязыка, наделение существованием абстрактных категорий метаязыка, образование универсалий, создающих единство опыта и мировоззрения: «я», «сознание», «мир», «истина»; 4) «аксиология» – коннотация коннотации, переоценка ценностей. Коннотативные семиотики – «критика» и «аксиология» – порождают априоризм как рефлексию первичной коннотации с ее избытком означаемых, а метаязыковые – «анализ» и «метафизика» – онтологизм как рефлексию первичного метаязыка с его избытком означающих.
Примером «аксиологического архетипа» является ирония Сократа. В метаязыковых архетипах рефлексия имеет теоретический характер, они воплощают научную объективность и всеобщность, в них обосновывается общезначимость, точность и определенность языка философии, они создают основания для рационального мышления.
Философия трансцендирует все вторичные знаковые образования культуры. Семантика философии – трансцендентальная семантика. «Безусловное Другое трансценденции следовало бы представлять – если представление тут вообще возможно – не как беспредельное пространство за пределами земных границ, а как саму черту... впустившую в себя... ничто» [3, с. 145].
Что же касается третьего уровня рефлексивности, «рефлексии рефлексии рефлек- сии», которой соответствует четвертый знаковый уровень моделирования, то она невозможна в качестве систематической практики. Человеческий интеллект не может выработать приемы удержания и понимания того, что такое «знание о знании собственного (не)знания», хотя понимать «знание о собственном незнании» вполне может [2, с. 6–7], именно поэтому философская рефлексия и является «предельной».
Структуры философской рефлексии исходно не предполагают оснований для самих себя, и поэтому могут выражать собой бытийные смыслы, хотя сами по себе не объективируются по подобию знаков или вещей. «Именно принятое на себя и проводимое нами соответствие, которое отвечает на зов Бытия сущего, и есть философия... Это со-ответствие есть некая речь» [12, с. 157].
Феномен «странности» речи философа, рождающийся из его встречи с повседневным сознанием, устойчиво воспроизводящийся с момента возникновения философии и доныне, может быть проанализирован в качестве ключевого для понимания специфичности философской рефлексии [10, с. 8–9]. Но эта «странность» не эпатажная игра ума, а проявление усилия философии быть «строгим дискурсом», то есть типом рассуждения, который стремится к особого рода рефлексии над опытом, автономной и самоочевидной, объективной и рациональной [там же, с. 10–11].
Таким образом, если «классическая» рефлексия замкнута в сфере сознания, то «неклассическая», «конкретная» рефлексия должна развертываться в ситуации погруженности в культуру. Она не притязает на постижение абсолютных первоначал своего собственного движения, не ищет непосредственной очевидности, не требует беспредпосылочно-сти, целостность, самодостаточность и само-прозрачность «cogito» для нее недостижима. Условием возможности такого рода рефлексии как раз и выступает язык, который «должен проартикулировать ту нерефлективную почву, на которой вырастает любое движение рефлексии» [там же, с. 24] – язык как бессознательное в структурном психоанализе, язык как стихия обыденного сознания «пред-рас-судочности» у Г. Гадамера. Но чем более разнородные функции вменяются языку в подоб- ных концепциях, тем сомнительнее тот факт, что он является действенной альтернативой самосознанию как классической инстанции обоснования знания.
Подлинной альтернативой сознанию и самосознанию, абстрактным трансцендентальным схемам мышления, мыслящего самого себя могла бы выступить конкретность действенно-практической жизни, включающей мышление и языковое сознание как аспекты своего функционирования.
Список литературы Язык философии и философская рефлексия
- Автономова, Н. С. Рефлексия в науке и философии/Н. С. Автономова//Проблемы рефлексии в научном познании: межвуз. сб./отв. ред. В. Н. Борисов. Куйбышев: Изд-во КГУ, 1983. С. 19-25.
- Анкин, Д. В. Пролегомены к семиотике философии/Д. В. Анкин. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2003. 294 с.
- Бибихин, В. В. Язык философии/В. В. Бибихин. М.: Изд. группа «Прогресс», 1993. 403 с.
- Брутян, Г. А. Очерки по анализу философского знания/Г. А. Брутян. Ереван: Изд-во «Айастан», 1979. 288 с.
- Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию/В. фон Гумбольдт; пер. с нем., ред. и вступ. ст. Г. В. Рамишвили. М.: Прогресс, 1984. 397, [2] с.
- Диалектика рефлексивной деятельности и научное познание/отв. ред. Е.Я. Режабек. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1983. 240 с.
- Мамардашвили, М. К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке/М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский; под ред. Ю. П. Сенокосова. М.: Языки русской культуры, 1997. 224 с.
- Павиленис, Р. И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка/Р. И. Павиленис. М.: Мысль, 1983. 280 с.
- Степанов, Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка/Ю. С. Степанов. М.: Языки русской культуры, 1998. 779 с.
- Тузова, Т. М. Специфика философской рефлексии/Т.М. Тузова/Ин-т философии Нац. АН Беларуси. Минск: Право и экономика, 2001. 262 с.
- Хайдеггер, М. Время и бытие: статьи и выступления/М. Хайдеггер/сост., пер. с нем., вступ. ст., коммент. и указ. В. В. Бибихина. М.: Республика, 1993. 447 с.
- Хайдеггер, М. Что это такое -философия?/М. Хайдеггер; пер. Е. В. Ознобкиной//Путь в философию. Антология. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Унив. кн., 2001. С. 145-159.