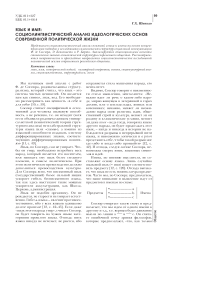Язык и имя: социолингвистический анализ идеологических основ современной политической жизни
Автор: Шенкао Гашемида Хаджимуратовна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Языки культуры
Статья в выпуске: 1 (14), 2010 года.
Бесплатный доступ
Представлен социолингвистический анализ понятий языка и имени на основе концептуальных подходов к исследованию символических структур социальной коммуникации Ф. де Соссюра, Э. Бенвениста и Р. Барта. Анализируются этносоциальные аспекты становления знаково-символической структуры современного общества. Рассматриваются теоретические и прикладные направления социолингвистических исследований политической жизни современного российского общества
Знак, имя, исторический подход, культурный стереотип, символ, социокультурный анализ, социолингвистика, структурализм, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14042525
IDR: 14042525 | УДК: 811+327
Текст научной статьи Язык и имя: социолингвистический анализ идеологических основ современной политической жизни
Мы начинаем свой анализ с работ Ф. де Соссюра, родоначальника структурализма, который считал, что язык – это система чистых ценностей. Он является нам как символ, знак, код. Его необходимо рассматривать как ценность «в себе и для себя» [10, с. 59].
Соссюр считает специфичной и естественной для человека языковую способность, а не речевую, т.е. он исходит (хотя его и объявили родоначальником универсалистской (семиотической) теории структурного анализа) не из абстрактной структуры языка (или «схемы»), а именно из языковой способности создавать «систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям» [11, с. 49].
Язык, по Соссюру, сам не умирает. Чтобы он умер, необходимо истребить весь народ, который является его носителем, или навязать ему язык более сильного племени, в смысле политическом. При этом политическое превосходство должно дополняться превосходством культуры. Для Соссюра ясно, что письменный язык (государственный) более сильной нации ускоряет гибель бесписьменного языка, так как здесь выступают такие мощные ускорители аккультурации, как Школа, Церковь, администрация.
Язык не подобен организму. Он не рождается, не стареет и не умирает естественно. Гибель языка – явление противоестественное, ибо у всех языков одинаково долгое прошлое [12, с. 42–45]. Если даже «язык этого народа умер», считает Соссюр, он будет говорить на чужом языке категориями прошлого языка. Отсюда: нить языка никуда не исчезает, не рвется, ибо сохраняется стиль мышления народа, его менталитет.
Видимо, Соссюр говорит о неизменности стиля мышления, менталитета: «Неважно идет ли речь о каком-либо народе, мирно живущем в затерянной в горах долине, или о земледельцах, воинах или кочевниках; неважно, меняет ли неожиданно народ свою религию, идеи, общественный строй и культуру, меняет ли он родину и климатические условия, меняет ли даже язык – ведь тогда, говоря на языке другого народа, он будет продолжать этот язык, – нигде и никогда в истории не наблюдаются разрывы в непрерывной нити языка, и невозможно логически и а priori представить себе, чтобы такой разрыв мог где-либо и когда-либо произойти» [12, с. 42]. И отсюда, следуя логике Соссюра, невозможна смерть имен, языковых символов и идей.
Имена, по мнению мыслителя, не составляют основу языка. Лишь случайно языковой знак (= имя) может соответствовать предмету [12, с. 120]. Отсюда вытекает, что язык не есть номенклатура предметов. Часто мы, по Соссюру, предполагаем, что наше внимание и мышление идут от предметов к именам по схеме:
Предметы
•────── a
•────── b
•────── c
Имена
Соссюр отвергает такую схему и предполагает, что мы идем от одного имени к другому и т.д., т.е. верным будет движение мысли по линии а в с. Он считает ошибочной точку зрения философов, которые предполагают, «что, как только
Общество
Terra Humana
предмет получает имя, образуется некое целое, которое передается дальше без каких-либо происшествий» [12, с. 121], т.е. имя не само двигается в языке, оно движется только с языком. Часто философы не учитывают временной (темпоральный) характер при сочетании (= соединении) имени и понятия. Понятие может спонтанно оторваться от имени. Имя (= знак) и понятие при этом могут оставаться отдельными сущностями. Но при изменении знака (лингвистически понимаемого как имя, как слово, именующее вещь, т.е. дающее нарицательное имя) меняется и понятие. Тогда постоянно совпадает количество знаков (= имен) и понятий [12, с. 122].
Таким образом, мы можем отметить, что Соссюр остается в рамках своеобразного исторического подхода к изменению имени. Историзм имянаречения входит в противоречие с историзмом видения языка. Это противоречие Соссюр снимает через введение слова « понятие », т. е. содержание . Изменение знака (имени нарицательного) есть своеобразное движение, ограниченное рамками традиций, правилами языка, слова. Имя за собой меняет и понятие. Конечно, это мысли начала XX века, но они заставляют нас также задуматься о сложности имятворчества в языке, заставляют подходить к языку, к именам исторически .
Проблемами имени, смысла слов после Соссюра занимался выдающийся языковед Э. Бенвенист. Он анализировал, дешифровывал имена, имеющие хождение в Европе, Индии, Иране с древнейших времен. В какой-то степени его метод можно сравнить с методом дедукции, т.е. он идет от общего к частному. Он искал в прошлом смыслы слов, сначала – в латинском, затем – в греческом, а далее – в культуре ариев, т. е. в культурах Индии и Ирана, занимался дешифровкой нарицательных имен, «обнажал» имена до корней, до истоков, до архе. И обнаруживалось, что они вещали о прошлом, что их давали исходя из объема власти, религии, права. Здесь важны символы этих социальных институтов: скипетр, жезл, посох. Они выражают (= орудия) славу, мощь, подвиг.
Имена даются исходя из человеческих отношений: родства, брака, родоплеменных связей, страны проживания, статуса человека, гражданства, отношения «свой – чужой» и т. д. Неограниченный, свободный полет мышления может охватить неограниченный этот мир и людские отношения в нем. Человек вступает во множество разнообразных отношений: родственных, этнических, социальных и т. д. Бесконечность этих отношений порождает бесконечность связей, видений мира. Отсюда бесконечное разнообразие имен, вещей, оттенков наименований предметов.
В шестой главе работы «Словарь индоевропейских социальных терминов» [3] Бенвенист ведет социокультурный анализ этнонима «арии». В рамках данного анализа он ставит вопрос: мог ли конгломерат племен индоевропейцев ощущать свое политическое единство, иметь одно общее имя и ощущать себя единым целым? Конечно, в то время термина «нация» не было. Но это вовсе не говорит о том, что индоевропейские народы не выработали понятия , считает французский мыслитель [3, с. 237]. На самом деле у ариев имелись термины, классы терминов, обозначавшие территориальные и социальные единицы различной величины. Например, на западе индоевропейского ареала есть название tota – touta (Италия), что означает город , община . И у кельтов, и у галлов были производные от него слова, означавшие народ, страна, люди.
Этноним deutsch (немецкое) сначала говорил о языке, лишь позже – о народе. В балтийских языках (литовском) tauta = народ, племя. Старославянское tudjo означает чужой . Оно производно от немецкого. Славянское же слово «немец» произошло от слова «немой», т. е. варвар. У латышей tauta означало «чужой народ» . Таким образом, пишет Бенвенист, «термином teuta характеризовались германские народы в глазах своих славянских соседей» [3, с. 239].
Бенвенист считает, что слово teuta имеет корнем абстрактное имя на tд, означающий «мощный». «В таком случае слово teutд следует толковать приблизительно как «полнота», оно означало полноту развития социальной единицы» [3, с. 239]. Отсюда появился у индоевропейцев глагол «мочь», а после – «мощный». Исследователь задается вопросом: а для чего нужны этнонимы? «Всякий этноним имел в древности дифференциальный и оппозитивный характер» [3, с. 239]. По его словам, в имени народа содержится намерение отличить себя от соседних народов, утвердить свое превосходство. И это можно было сделать, обладая общим и понятным всем языком. «Такое положение вещей зависит от различия отношения к войне и миру в современном и древнем обществе, которое обычно недооценивается. Соотношение между состоянием мира и состоянием войны в древности и сейчас прямо противоположное» [3, с. 239]. Если мир для нас нормальное явление, то для древних людей наоборот: война для них была явлением постоянным, которое прерывалось миром. То есть мир здесь явление случайное, война – закон жизни.
Арии – у народов Индии и Ирана – свободные люди. Но здесь интересно, что иранцы называют себя иранцами , а индийцы – нет. Персы обозначали названием Hindu одну из провинций. Греки экстраполировали это название на всю страну. А сами индийцы называли себя арии . К ариям причисляли себя и древние иранцы. Так, Дарий называет себя арийцем из арийцев . От слова «арии» произошел этноним « иран ». Осетины именуют себя Алан . Бенвенист считает, что это измененное слово ариана . Арии имеют слово – противопоставление анарии , т. е. не-арийцы (чужеземец, раб, враг).
Что означает слово арии ? Исследуя историческое развитие этого термина, ученый приходит к выводу, что оно означает: 1) друг, 2) враг, 3) чужой, 4) гостеприимный. Но, пишет Бенвенист, в эндоэтнонимах (самоназваниях народов) мы не найдем народа, который называл бы себя гостеприимным . Этноним представляет собой либо красочное определение: храбрый, сильный и т.д., либо – люди. Народ называет себя просто люди , противопоставляя себя животным, мифологическим персонажам, лесным людям, снежному человеку и т.д. Отсюда, неверен перевод: арии = гостеприимный народ. Народы становились гостеприимными только после заключения договоров. Поэтому в древности не было открытого общества, которое провозгласило бы себя гостеприимным. Бен-венист считает, что арии – это часть касты вайшьи, что термин арии произошел от имени индо-иранского бога Арьяман, что в переводе означает: «обладающий духом ария». В текстах «Ригведы» Бенвенист обнаруживает, что арии – привилегированный класс общества, в котором имеется двойное деление экзогамного общества, где обе половины поддерживают между собой обмен или находятся в состоянии соперничества [3, с. 243].
Бенвенист считает, что необоснованно приписывать слову «арии» значения: « выдающееся », « высшее », и что необходимы дальнейшие лингвистические изыскания. Действительно, дальнейшие исследования Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова [4; 5]
частично опровергают мысли Бенвениста. Эти авторы утверждают, что прародиной индоевропейцев (и не только) является Передняя Азия. Раскопки, проведенные в Богазкёе, показали, что Передняя Азия явилась прародиной не только индоевропейцев, но и кавказских народов. Отсюда и интерес к кавказским языкам (абазинскому, абхазскому и т. д.), в которых много хаттских имен богов и героев.
Ценность исследования Бенвенистом этнонима «арий» определяется тем, что он предлагает научную гипотезу, открытую систему. В 30-е – 40-е годы XX века арийская теория являлась основой фашистской идеологии в Германии. Но Бенвенист не ушел от этой проблемы, не пошел на поводу идеологии германских фашистов. Он как ученый-лингвист показал социальные корни этнонима «арий» и заявил, что эти корни нуждаются в дальнеших исследованиях.
Таким образом, Бенвенист одним из первых стал уходить от европоцентризма и искать корни терминов вне Европы, вне латыни, вне греческого языка. Корни эти он искал в Индии и Иране. Его мысли перекликаются с мыслями немецкого философа К. Юнга, который считал, что ни сама по себе Азия со своей мудростью, ни Европа сама по себе со своей наукой, каждая раздельно не спасут мир от потрясений цивилизации. Глобальные общечеловеческие проблемы можно решить соединив культуры Европы и Азии. В этом ключе актуальность работы Бенвениста приоткрывается еще с одной стороны. Многие нерешенные вопросы кавказоведения: проблема родства языков, культуры, этнонимов, топонимии, антропонимии и т. д. – можно исследовать, используя методологию Бенвениста. С другой стороны, расшифровка имен богов, героев, топонимов и т. д. кавказских народов приоткрывает завесу и над общей культурой человечества. В этом отношении плодотворными являются попытки исследования культуры народов Кавказа через призму наследия хаттов [1; 4; 5], а также их связей с балканскими, греческими, римскими, византийскими, славянскими и переднеазиатскими культурами. В этом же русле написаны работы Л.И. Лаврова [7; 8; 9] и Г.Ф. Турчанинова [13].
Таким образом, разработанная Э. Бенвенистом методология исследования нарицательных имен через призму индоевропейского видения мира не потеряла своего значения и сегодня. На ней основываются и по сей день исследовательские программы многих ученых.
Общество
Terra Humana
Мимо проблем теории имени не прошел и один из крупнейших мыслителей XX века Р. Барт. «Путешествием в семиологию» назвал он последние тридцать лет своей жизни. И именно в этом русле исследует он проблему знака и его функционирования в культуре, который, как он считает, имеет множество прочтений . Подобный подход – новое слово в теории имени. Барта часто причисляют к структуралистам, но он не чистый адепт структурализма, ибо его интересовала не мертвая структура, а процесс структурирования, динамический ход «означивания», проникновение в архе, первоначальный смысл.
Наличие бесконечно разнообразных смыслов как раз и обусловливают расслоение единого национального языка на множество так называемых «социолектов», которые он обозначает термином «тип письма» [6, с. 15]. «Социолекты» – опред-метившаяся в языке идеологическая сетка, которую та или иная группа, класс, социальный институт помещают «между индивидом и действительностью, понуждая его думать в определенных категориях, замечать и оценивать лишь те аспекты действительности, которые эта сетка признает в качестве значимых». Через «социолект» мы читаем различные социокультурные представления, заложенные в тексте, т. е. тем самым Барт фиксирует множество ментальных подходов к одному тексту, явлению, имени. Через язык мы именуем предметы, категоризируем их. Не мы пользуемся языком, а он нас использует, считает он.
Список литературы Язык и имя: социолингвистический анализ идеологических основ современной политической жизни
- Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы Древней Анатолии. -М.: Наука, 1982.
- Барт Р. Избранные произведения. -М.: Прогресс, 1989.
- Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. -М.: Прогресс, 1995.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы, т. 1-2. -Тбилиси, 1984.
- Гамкрелидзе Т.В, Иванов Вяч. Вс. Индоевропейцы//Наука и жизнь. -1988, № 5.
- Косиков Г.К. Ролан Барт -семиолог, литературовед. Вступительная статья//Барт Р. Избранные произведения. -М.: Прогресс, 1989.
- Лавров Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа. -Л.: Наука, 1980.
- Лавров Л.И. Критические заметки по топонимике Северного Кавказа//Ономастика Кавказа. -Орджоникидзе, 1980.
- Лавров Л.И. Этнография Кавказа. -Л.: Наука, 1982.
- Слюсарева Н. Соссюр//Философская энциклопедия, т.5. -М.: Советская энциклопедия, 1970.
- Соссюр, де Ф. Труды по языкознанию. -М.: Прогресс, 1977.
- Соссюр, де Ф. Заметки по общей лингвистике. -М.: Прогресс, 1990.
- Турчанинов Г.Ф. Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа. -М.: Агент, 1999.
- Энциклопедия новейших афоризмов. ХХ век. -Минск: Современный литератор, 1999.
- Соссюр, де Ф. Труды по языкознанию. -М.: Прогресс, 1977.
- Соссюр, де Ф. Заметки по общей лингвистике. -М.: Прогресс, 1990.
- Турчанинов Г.Ф. Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа. -М.: Агент, 1999.
- Энциклопедия новейших афоризмов. ХХ век. -Минск: Современный литератор, 1999.