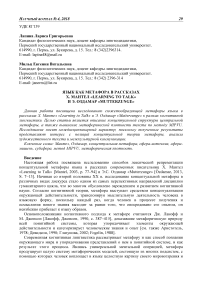Язык как метафора в рассказах Х. Мантел "Learning to talk" и Э. Оздамар "Mutterzunge"
Автор: Лапина Лариса Григорьевна, Мильц Евгения Витальевна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общие вопросы языкознания
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
Данная работа посвящена исследованию сюжетообразующей метафоры языка в рассказах Х. Мантел «Learning to Talk» и Э. Оздамар «Mutterzunge» в рамках когнитивной лингвистики. Целью статьи является описание концептуальной структуры центральной метафоры, а также выявление метафорической плотности текста по методу MIPVU. Исследование носит междисциплинарный характер, поскольку полученные результаты представляют интерес с позиций концептуальной теории метафоры, анализа художественного текста и межкультурной коммуникации.
Мантел, оздамар, концептуальная метафора, сфера-источник, сфера- мишень, субсфера, метод mipvu, метафорическая плотность
Короткий адрес: https://sciup.org/147227694
IDR: 147227694 | УДК: 81''139
Текст научной статьи Язык как метафора в рассказах Х. Мантел "Learning to talk" и Э. Оздамар "Mutterzunge"
Настоящая работа посвящена исследованию способов лексической репрезентации концептуальной метафоры языка в рассказах современных писательниц Х. Мантел «Learning to Talk» [Mantel, 2003, p. 77–94] и Э.С. Оздамар «Mutterzunge» [Özdamar, 2013, S. 7–13]. Начиная со второй половины XX в. исследование концептуальной метафоры в различных видах дискурса стало одним из самых перспективных направлений дисциплин гуманитарного цикла, что во многом обусловлено зарождением и развитием когнитивной науки. Согласно когнитивной теории, метафора выступает средством концептуализации окружающей действительности, транспонируя мыслительную деятельность человека в языковую форму, поскольку каждый раз, когда человек в процессе получения и осмысления нового знания выходит за рамки того, что опосредовано его опытом, он неизбежно прибегает к языку образов.
Основоположниками когнитивного подхода к метафоре считаются Дж. Лакофф и М. Джонсон [Лакофф, Джонсон, 1990, c. 387–415], доказавшие метафорическую природу всей понятийной системы, которая упорядочивает элементы окружающей действительности и категоризирует человеческие знания и опыт [см. также Аристотель, 1978; Девидсон, 1990; Глазунова, 2002; Fogelin, 1988].
Современная когнитивная лингвистика рассматривает метафору и как способ познания окружающего мира и упорядочивания представлений о нем в понятийной системе, и как результат этого процесса. Являясь универсальной ментальной операцией, метафора продуцирует целую систему метафорических моделей, состоящую из многих подсистем, с помощью которых человек воплощает в языке целостную картину своего мировоззрения и опыта; таким образом, она неразрывно связана с национальным, социальным и личностным самосознанием, механизмами постижения и отражения исторической и культурной памяти.
Хотя в традиционной стилистике нередко выделяют разные виды метафоры, в данном исследовании в соответствии с общими принципами когнитивистики мы будем использовать широкий подход к выделению метафоры как по формальным, так и по содержательным признакам. По мнению Н.Д. Арутюновой, метафорой «может быть назван любой способ косвенного выражения мысли» [Арутюнова, 1990, c. 296–297].
В русле данного подхода к объему и содержанию понятия метафоры принято не заострять внимание на семантических, стилистических, эстетических и прочих различиях между метафорой и сравнением, а также рассматривать в качестве метафоры и такие виды семантического переноса, как метаморфоза, гипербола, перифразы, фразеологизмы и др. Специфика данных видов метафоры не отрицается, но акцент делается на переосмыслении значения как факторе более важном, чем уровневые или структурные различия.
Основная часть
Материалом исследования выступили рассказы современной британской писательницы Хилари Мантел «Learning to talk» и немецкой писательницы турецкого происхождения Эмине Севги Оздамар «Mutterzunge». Выбор этих авторов и даже этих конкретных произведений неслучаен. Оба автора считаются ключевыми фигурами национальных литератур своих стран, чье творчество отражает динамику литературного процесса и концентрирует темы и идеи, волнующие современного человека и раскалывающие общество на несколько враждующих лагерей.
Каждый из рассказов взят из сборника коротких историй, объединенных одной центральной идеей, и является программным, помещая читателя в определенную систему координат; повествование в них ведется от первого лица, и в образе лирической героини присутствует автобиографическое начало. Характерно, что для художественного отображения идеи поиска своей идентичности, социальной и культурной амбивалентности и ее преодоления авторы избрали метафору языка. Наиболее существенная разница связана с тем, что героиня Э. Оздамар существует между двух национальных культур – немецкой и турецкой – и язык служит для нее средством связи, отторжения, собирания себя воедино и, в конечном итоге, возвращения гармонии. Персонажу Х. Мантел нужно решить проблему меняющегося отношения к непривычному, но навязанному социальными требованиями варианту родного языка. Акцент в этом произведении ставится не на взаимодействии различных национально-культурных общностей, а на конфликтах внутри одной культурной среды: между детьми и взрослыми, богатыми и бедными, индустриальным аскетическим Севером и привилегированным Югом.
Методология анализа состояла из двух этапов. На первом этапе для целостного описания пространства метафорической модели, представляющей собой когнитивную структуру анализируемых произведений, была использована предложенная А.П. Чудиновым структура классификации метафор по сфере-источнику метафорической экспансии [Чудинов, 2003, c. 70–72]. На втором этапе в целях анализа метафорического потенциала каждой лексической единицы в исходных текстах использовалась известная методика выявления метафор – MIPVU Г. Стейна [Steen, 1999, p. 55–77].
Согласно данной методике, широко используемой в когнитивной теории метафоры, каждое слово в тексте необходимо подозревать на метафоричность. Для того, чтобы доказать или опровергнуть метафоричность слова, необходимо сравнить его контекстуальное значение (значение, выявленное исходя из прочитанного текста) с базовым (самое предметное значение слова). Процедура выявления метафоры по методике MIPVU проходит в четыре шага:
-
1. Прочтение всего текста для полного понимания его смысла.
-
2. Разделение предложения на отдельные лексические единицы.
-
А) Выявление контекстуального значения для каждой лексической единицы;
Б) Поиск базового (самого предметного, часто физического, временного) значения каждого слова в словаре;
-
В) Сравнение контекстуального значения с базовым (если базовое и контекстуальное значения совпадают – метафоры нет; если базовое и контекстуальное значения не совпадают – метафора есть).
-
3. Если метафора присутствует, отмечаем, что лексическая единица была использована в метафорическом смысле.
При анализе не учитываются вспомогательные слова, артикли, местоимения, которые метафоричны в силу своей природы. Сочетание двух методов идентификации метафор – дедуктивного и индуктивного – способствует лучшему пониманию того, каким образом языковые средства используются в художественном произведении для реализации когнитивной модели, а в более широком смысле – углублению представлений о взаимосвязи авторской картины мира, концептуальной метафоры и вербализующих ее единиц.
Хилари Мери Мантел – британская писательница, литературный критик, лауреат Букеровской премии, является членом Королевского общества литературы. Рассказ «Learning to Talk» метафорически отождествляет овладение «правильным», то есть, социально одобряемым вариантом английского языка с идеей самореализации юной девушки, которая пытается найти свою дорогу в жизни и попутно сбросить с себя гнет чужих ожиданий, связывающих успешную карьеру с избавлением от провинциального акцента северо-западной Англии. Структура концептуальной метафоры языка включает несколько ключевых сфер-источников. Во-первых, это сфера «Человек» и входящие в ее структуру субсферы:
-
1. Возраст (детство). Детство ассоциируется у автора с состоянием беспомощности, несвободы и невозможности выразить себя: day girl ; playground skills of insult and assault ; abandoned children who are suckled by wolves and who all their lives remain mute ; progressing with painful slowness; a twelve-step programme for young people who hate being young ; as if he hated the young ; nursery of my vowels .
-
2. Рост / размер. Мантел часто использует прилагательное little , которое может относиться и к размеру, и к возрасту, и выражает пренебрежительно-жалостливое отношение: little runabouts , scrubby little hands , little sparrow-like woman , gloomily Brobdingnagian , leprechauns , a little pink bow in its topknot , small town had lost its prosperity .
-
3. Части тела и их функции: prominent shin bones ; mechanics of breathing and articulation ; professional body ; blue around the lips ; stockinged feet ; three bottom fingers glued together ; age-spotted hand ; I kept my hands clasped as if trying to damp down disaster ; eyes had slithered down to my body and glued themselves to my feet .
-
4. Способность говорить и писать: to adapt their voices ; my voice had brought me … a certain notoriety ; to talk for a living ; to keep your mouth shut ; the whole business of learning to talk ; I had letters after my name .
-
5. Чувства, состояния: fuelled my fantasy ; a lonely sort of dream , full of ennui and distaste ; as if she were too shocked to continue ; There is no point in being bitter ; Expectations were inflated for a few years, and have now been punctured .
-
6. Болезнь, инвалидность: sick numbing distress ; she had only one lung ; a short-winded child .
-
7. Одежда: lacy-knit boleros , cable-stitch sweaters , pre-war cut of my school raincoat , mock crocs , the footwear of a retired actress . Интересно, что в кульминационной сцене рассказа, символизирующей окончание детства и переход к юности, в описании экзамена, автор использует прием буквального физического воплощения или опредмечивания метафоры “ to be in somebody’s shoes ” – быть в чьем-либо положении, поскольку героиня пошла на экзамен в туфлях мисс Уэбстер. Именно после этого девочка, прежде пассивно
подчинявшаяся чужим требованиям, поняла, что жила чужой жизнью и решила поступать по-своему. Таким образом, метафоры «прорастают» в реальность, структурируют жизненный опыт героини и определяют отношение к нему.
Сфера «социум» также играет чрезвычайно важную роль в концептуальном пространстве рассказа, и представлена следующими ключевыми субсферами:
-
1. Изучение языка. Орфоэпическая норма воспринимается как символ успеха в обществе и состоявшейся жизни в целом: People were not supposed to worry about their accents but they did worry … as if they were black, or bereaved, or slightly deformed ; shibboleths ; modified my accent ; every tricky vowel ; I have ironed them (my vowels) out ; Received pronunciation was the goal . Метафорично и имя учительницы героини мисс Уэбстер, так как из-за ассоциации со знаменитыми словарями Уэбстера оно также становится неким стандартом языковой нормы.
-
2. Милитарная метафора: schoolbag full of atomic secrets ; my life as a spy ; rhyming minefields ; lines seemed packed with emotion like high explosive ; their walls are pockmarked as if they had recently been under fire .
-
3. Спорт: a trial run ; you could win a point in tennis with a well-executed parsing shot . Спортивная метафора, как и военная, отражает идею жесткой конкурентной борьбы.
-
4. Театральная метафора: stage fright ; elocution was performed ; sweeping the stage ; theatrical equivalent of painting by numbers ; perform the parts .
-
5. Географическая метафора. «Север» и «Юг» Англии, ассоциирующиеся с определенным произношением, начинают функционировать как самостоятельные символы, причем север символизирует мрачную, будничную, беспросветную жизнь, а юг – шикарную и успешную: nursed their chilblains through Pennine winters ; scudding, northern sky rushed overhead; accent was precariously genteel , Mancunian with icing ; a distinct southern ring ; closet northerner ; the general decay of the north-west .
-
6. Морская метафора: social gulf ; we were all in the same boat ; ocean that separated my childhood from my teenage years has dried up .
-
7. Зооморфная метафора: sparrow-like woman ; she and the dog were alike: crushable, yappy, not very bright ; baited trap ; bucks .
-
8. Метафора тюрьмы: waiting to be released ; the years wasted ; state of arrested tension ; I would be able to get away .
В качестве пограничной области, относящейся одновременно и к человеку, и к обществу, можно отметить субсферу «Дорога, путешествие», представленную следующими метафорами: family moved house ; translated to Cheshire ; British Rail’s speckled glass ; traffic warden ; cars splashed by ; driving through the everlasting soft grey blanket of rain . Тема перемещения используется для создания кольцевой композиции: рассказ начинается с переезда героини с севера на юг, и заканчивается описанием ее посещения этих же мест много лет спустя.
В ткани рассказа все выявленные метафоры тесно переплетены и взаимодействуют между собой. Например, метафоры детства связаны с образами Севера и с фантастическим перевоссозданием реальности, потому что со времен детства, проживая в небогатых северных краях, маленькая девочка мечтала о захватывающих приключениях, противопоставленных унылым и неэффективным занятиям с мисс Уэбстер. Богатство и успешность в карьере, по мнению большинства, связаны с нормативным (южным) произношением, поскольку именно юг, родина Чосера и Шекспира, ассоциируется с высококультурными и образованными людьми, добивающимися успеха в искусстве, политике и бизнесе.
Взросление переплетается с реальностью и противопоставляется мечтанием. Главная героиня не надеялась на светлое будущее, безропотно выполняя волю людей, от которых она зависела материально, и воспринимала жизнь как беспощадную конкуренцию, напоминающую соревнования. Только много лет спустя она примирилась с этим навязанным ей извне умением «говорить правильно», поняв, что оно в конечном итоге ничего не решает и ничего не доказывает.
Важным вопросом с методологической точки зрения является вопрос о критериях включения конкретных лексических единиц в структуру метафорической модели. С одной стороны, предполагается, что они должны представлять собой лингвистические метафоры, основанные на том или ином виде семантического переноса. С другой стороны, в художественном тексте немало слов, метафоричность которых кроется не в системе языка или лингвистических механизмах смыслового сдвига, но обусловлена авторским замыслом и фактом соотнесенности той или иной единицы с концептуальной моделью.
Таким образом, лексика, которая не содержит явной метафоричности, но принадлежит к смысловому полю модели языка, тоже может считаться средством ее вербализации. Метафоричность таких единиц во многих случаях обусловлена более широким контекстом культуры; так, географические понятия «Север» и «Юг» в английской культуре уже давно воспринимаются как социальные метафоры благодаря роману викторианской писательницы Э. Гаскелл «Север и Юг», опубликованному еще в 1855 г.
Слово leprechauns (лепреконы), обозначающее гномов из ирландского фольклора, употребляется в рассказе в прямом значении: героиня декламировала стишок о лепреконах на занятии. Однако в контексте восприятия девочки, ощущающей себя в детской группе Гулливером в стране лилипутов, эта единица тоже обретает образность и вплетается в метафорическую сеть, в ячейки которой память лирической героини ловит отдельные сцены, диалоги, ощущения.
Таким образом, неметафорические, но семантически связанные со сферой-источником метафорических смыслов лексические единицы, в данном исследовании было также принято считать вербализациями центральной модели.
В целом, антропоцентричность языка связана с восприятием его важным компонентом человеческой личности, не сколько телесным (хотя и телесным тоже), сколько имеющим отношение к сфере психики и эмоций и образу самого себя в сознании человека. Применительно к социуму, язык служит неким мерилом социальной успешности, отличительным признаком победителей по сравнению с проигравшими.
В контексте всего произведения идея овладения языком метафорически отражает движение вперед и трансформацию человека как в плане физическом (рост, переход от детства к юности и к взрослой жизни), так и социальном (героиня уезжает от своих невеселых занятий и возвращается в город своего детства состоявшейся личностью) и, несомненно, духовном (объединение противоположностей и принятие себя и своего прошлого).
Обратимся к системе метафор в рассказе современной немецкой писательницы турецкого происхождения Эмине Севги Оздамар «Mutterzunge». Само название рассказа содержит лежащую в его основе концептуальную метафору: автор подразумевает родной язык как средство коммуникации, тогда как в немецком языке турецкому (и русскому) понятию язык соответствуют два слова: Zunge (орган) и Sprache (речь). Так, с первых строчек утверждается идея метафоричности любого речепорождения на иностранном языке, а возможно, и метафоричного всего существования мигранта (изначально слово «метафора» означает перенос), его непрерывного движения между двумя культурами: «In meiner Sprache heißt Zunge: Sprache. Zunge hat keine Knochen, wohin man sie dreht, dreht sie sich dorthin» / «На моем языке, ‘Zunge’ значит ‘язык.’ Язык без костей: можно повернуть его куда захочешь» [Özdamar, 2013, p.7].
С точки зрения сфер-источников метафорической экспансии, чрезвычайно важна сфера «Человек», и идея телесной памяти, воплощенной в языке, становится лейтмотивом рассказа. Таким образом, антропоморфная модель языка может быть представлена следующими субсферами:
-
1. Части тела: Zunge , Knochen , Füße , Haare , Ohren , Augen , Kopf , Beinen , Knie , Gesicht , Finger , Blut , Mundwinkel , Körper , Herz , Mund , Nase . Эта субсфера представлена наибольшим числом метафор. По мысли автора, язык неразрывно связан с телесным бытием человека: все воспоминания повествовательницы о наиболее значимых вехах в изучении иностранного / потере родного языка передаются как телесные переживания.
-
2. Органы чувств и то, что они воспринимают: Wörter , hören , weiche Stimme , Sätze , Ohren , dunkel , Lichter , Augen , sehen , fotografieren , Fotokopiermaschine , Selbstporträt , fühlen , gucken , machen Augen zu , schauen , Schmerz , was bitteres im Mund haben . В эту же группу метафор можно отнести употребление турецкого глагола görmek – видеть. Его метафоричность обусловлена контекстом: автор говорит о «видении», но описывает ситуацию, в которой она могла только слышать голос заключенного, а он из окна тюрьмы мог уловить лишь очертания ее силуэта.
-
3. Способность говорить и писать: die Schriften kamen in meine Augen , stumm sein , nur mit Schrift was erzälen können .
-
4. Чувства, состояния, воспоминания: schämen , müde , weinen , erinnern , lächeln , Traum , lachen , турецкие выражения: kaza geçirmek (пережить катастрофу; буквально – «перенести»), Inschallah (ínşallah тур . – дай Бог!).
-
5. Действия, присущие человеку: sitzen , verlieren , springen , fassen , fangen , pflücken , kommen , laufen .
-
6. Пища: trockenes Brot , Speisekarte , Milch .
-
7. Одежда: blutiges Hemd , dünnes Hemd , ein Gefangener im blauen Trainingsanzug , Pulli mit Hochkragen .
-
8. Члены семьи: Mutter , Vater , Bruder , Großmutter , Großvater .
Еще одной важной сферой-источником метафор выступает сфера «Социум»; характерно, что воспоминания рассказчицы о социальных событиях, несущие негативную окраску, воспринимаются ей как описанные на иностранном языке; смена кода метафорически замещает психологическое отторжение. Представлены следующие субсферы: 1. Изучение языка: Analphabet , gut gelernte Fremdsprache , gut gelernte Fremdschrift , als ob ich eine fremde Sprache spreche ; 2. Места общественного питания: Negercafe , Trinkhalle , IC – Zugrestaurant, Kantine ; 3. Правоохранительная система: Aufhängen , Polizisten , Hausdurchsuchungspapier , Gericht , Richter , Kontrolleure , Polizei , Kommissar , Polizeikorridor ; 4. Тюрьма: Gefängnis , geschnappt worden sein , Zellen , mit Kugeln getötet ; 5. Публичный дом: Nuttenbad , arbeiten in einem Haus , die Kerle laufen über dich .
Отдельно нужно выделить ориентационную метафору, хотя у Оздамар она также носит отчетливый антропоморфный характер. Отметим следующие фреймы:
-
1. Расстояние по отношению к говорящему («это – то»): diese Stadt Berlin , derselbe Mutterzunge , andere Berlin ; 2. Деление на две половины: die Hälfte der Haare , der Aschenbecher von seiner Mitter in zwei Teile gesprungen , ein Auge auf , eine Rasierklinge in Körper ; 3. Дорога, путешествие, перемещение из одной страны / культуры в другую: Zug , geh auf Fingerspitzen in die Türkei , zum anderen Berlin zurückgehen , Weg zu meiner Mutter und Mutterzunge finden .
В тексте рассказа большинство ключевых метафор повторяются неоднократно; встречаясь в одном микроконтексте, они катализируют друг друга и в совокупности создают образ рассказчицы, для которой территорией борьбы с культурными различиями и границами, с негативным опытом социальных преобразований и общественными условностями становится собственное тело и язык, который мыслится одним из ключевых элементов неразрывного единства память – тело – язык.
Сравнивая повествовательную манеру Э. Оздамар и Х. Мантел, можно отметить, что у Оздамар намного меньше чисто лингвистических метафор, основанных на переносе значения. Однако нельзя сказать, что значимые лексические единицы обозначают именно то, что они должны означать согласно словарной дефиниции. Скорее, они выступают некими знаками, кодирующими целые фрагменты телесного и чувственного опыта, свернутого и заключенного в оболочку обыденных слов, обозначающих простые и всем известные вещи. В первую очередь такими вехами или приметами душевного ландшафта героини становятся соматизмы – единицы, вербализующие связь языка с телесными переживаниями, хотя их метафоричность далеко не очевидна и требует проникновения в социальный и культурный контекст.
Например, что имела в виду мать героини, сообщая ей, что в Германии она потеряла половину своих волос? Может ли это высказывание трактоваться буквально и не рассматриваться как возможная метафора? Вероятно, может. Однако стиль Оздамар очень далек от классического бытописательства: персонажи, сцены, отдельные реплики лишены какого-либо контекста и иной связи друг с другом, кроме ассоциативной.
Повествование движется не от события к событию, а от слова к слову, поэтому эти ключевые единицы становятся маркерами определенных фаз в эволюции героини и обретают плотность и смысловую многослойность. Потеря волос, таким образом, может обозначать взросление и раннюю умудренность. С другой стороны, длинные волосы всегда считались символом женской сексуальной энергии; как известно, мусульманкам положено носить скрывающий волосы головной убор. Таким образом, выражение «потерять половину волос» может восприниматься как «стать неженственной, перестать соответствовать каноническому для турецкой культуры стандарту женского поведения». Практически все упоминания частей тела человека, органов чувств или действий оставляют простор для воссоздания скрытых смыслов. Несомненно одно: язык – это отдельный самостоятельный орган и в то же время он опосредует и закрепляет в памяти все, что происходит в духовном мире человека; и язык телесных ощущений, перенесенный на другие связи и отношения, представляется самым доступным и естественным инструментом познания и вербализации нового духовного и чувственного опыта.
Антропоморфная сфера-источник смыслов играет столь важную роль в повествовании неслучайно. Писательница рассказывает историю девушки-иммигранта, оказавшейся в чужой культуре и чужой реальности без каких-либо других ориентиров, кроме своего тела. К тому же, слова, обозначающие части тела запоминаются при изучении иностранного языка намного раньше, чем абстрактные понятия. Очевидно, «язык тела» в буквальном смысле становится естественным средством самовыражения иноязычной личности в чужой языковой среде.
Социоморфные единицы также метафоричны, если рассматривать их смысл в контексте тела человека как основной точки отсчета. Так, тюрьма, пограничный контроль и полиция – это ограничение жизненной территории для тела и насильственное помещение его в замкнутое пространство камеры. Кафе и рестораны – это обезличенное, поставленное на поток обслуживание потребностей тела в пище, а публичные дома – потребностей в сексуальной сфере. Несмотря на то, что Оздамар практически не использует оценочной лексики, отношение героини к этим общественным учреждениям носит отчетливо негативный характер как к чему-то чужому и чуждому, дискомфортному для тела и навязывающему ему угнетенные условия существования.
На другом полюсе шкалы ценностей повествовательницы – семья, то есть люди, объединенные узами крови, что вновь возвращает нас к идее телесной памяти. Так, в рассказе много терминов родства – мать, брат, отец, хотя в большинстве случаев героиня рассказывает о людях, не являющихся ее родственниками. Употребление этих слов служит символом (метафорой!) теплого отношения и сочувствия к их переживаниям. Образ половинок и постоянной дороги от одной из них к другой также переживается через тело: путь – ходьба – ноги. В конце концов, героиня находит возможность собрать себя воедино, ощутить себя единым организмом. Она возвращается в Берлин (в начале рассказа также возникал образ Берлина, так что и в этом произведении присутствует кольцевая композиция), чтобы найти учителя арабского языка (общение с которым будет происходить на немецком) и вернуться с его помощью к корням своей исконной культуры.
Эти наблюдения позволяют рассматривать выделенные выше лексические единицы как метафоры в контексте данного художественного произведения, хотя их символический смысл имплицитен и не может быть выявлен вне контекста метафорической модели языка. При сравнении способов текстовой репрезентации концептуальной метафоры языка в двух произведениях можно отметить значительное сходство в структуре сюжетопорождающей метафоры.
Язык – метафора самореализации, способ самопознания и самовыражения героини, мучительно преодолевающей внутреннюю раздвоенность и ищущей свою дорогу в антагонистически настроенном обществе. В обоих рассказах она представлена двумя сферами-источниками метафорических смыслов: «Человек» и «Общество». В сфере «Человек» можно выделить общие фреймы «Части тела», «Чувства и состояния», «Способность говорить и писать», «Одежда», передающие идею антропоморфной органической природы языка; в сфере «Социум» определяющую роль играет метафорическое поле изучения языка или овладения языком как приобщения к социокультурной норме и образ тюрьмы. Эти две сферы соединяются посредством общей для двух рассказов идеи дороги как поиска своей идентичности.
В то же время, существуют и различия, связанные с преобладающим отношением к языку. Так, для Х. Мантел язык является неким благоприобретенным умением, которое мыслится как возможность для индивида вырасти физически и духовно, открыть для себя новые горизонты. Изучение языка связано с физическими ограничениями, лишением голоса и телесного комфорта (заучивание обязательного «Жеста», туфли мисс Уэбстер), но все же больше воспринимается как психическое насилие над личностью героини. В произведении Э. Оздамар метафора языка как продолжения телесного бытия является определяющей и структурирует всю систему образов. Для ее героини важен не столько сам язык, сколько та реальность и отношение к ней, которое он кодирует.
Возможно, выявленная разница в восприятии языка нашла отражение в стиле обоих рассказов, в частности, в количестве лингвистических метафор, которые можно однозначно классифицировать как тропы или стилистические приемы. Героиня Мантел использует чрезвычайно образную речь, изобилующую различными видами метафор и сравнений – традиционных, индивидуально-авторских, атомарных и распространенных, актуализирующих различные семантические признаки и т. д., что вполне естественно для человека, выросшего на пьесах Шекспира.
Героиня Оздамар, напротив, использует на первый взгляд скудный набор повествовательных средств, что также является отражением ее ограниченного языкового опыта. Она тяготеет не к стилистической метафоре, а к концептуальной, связанной с определенными ассоциациями генетической и культурной памятью. Тем не менее, и в том, и в другом рассказе метафоры текстовые подчиняются единой задаче вербализации когнитивной метафоры языка, задающей вектор повествования.
Заключение
Задача проанализировать тексты рассказов по методу MIPVU Г. Стейна была предпринята для того, чтобы иметь возможность объективировать данные, полученные методом сплошной выборки. Данный инструмент анализа был разработан с целью выявления скрытого метафорического потенциала текстов, традиционно считающихся не содержащими образности, например, научного или общественно-политического характера. Применение его к художественному тексту является относительно новой задачей. Анализ текстов рассказов по методу MIPVU позволил выявить количество слов-метафор в каждом из них. Соотнеся эту цифру с общим количеством слов в рассказе, можно вычислить метафорическую плотность текста. Для рассказа Х. Мантел она равна приблизительно 6 %, для рассказа Э. Оздамар – 5 %.
Эти данные подтверждают наличие значительного уровня метафоричности в тексте рассказа «Mutterzunge», хотя без применения специального алгоритма для идентификации метафор этот параметр текста был бы не столь очевиден, поскольку большинство авторских метафор не являются классическими тропами.
Таким образом, анализ структурного наполнения метафоры языка в сочетании с данными о наличии или отсутствии метафоричности каждой лексической единицы текста в совокупности дает более объемную картину репрезентации когнитивной метафоры на лексическом уровне в художественных произведениях, написанных на английском и немецком языке.
Список литературы Язык как метафора в рассказах Х. Мантел "Learning to talk" и Э. Оздамар "Mutterzunge"
- Аристотель. Риторика (Книга III)/Аристотель//Аристотель и античная литература. Москва: Наука, 1978. С. 164-229.
- Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс//Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз./Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. Москва: Прогресс, 1990. 512 с.
- Дэвидсон Д. Что означают метафоры//Теория метафоры. Москва: Прогресс, 1990. С. 173-193.
- Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем//Теория метафоры. Москва: Прогресс, 1990. С. 387-416.
- Глазунова О.И. Логика метафорических преобразований. Санкт-Петербург: Филологический факультет, 2002. С. 177-178.
- Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Монография. Екатеринбург: Изд-во «Уральский государственный педагогический универистет», 2003. 248 с.
- Fogelin R. Figuratively Speaking. New Haven and London: Yale University Press, 1988. 120 p.
- Mantel H. Learning to Talk. Short stories. London, New York, Toronto and Sydney: Harper Perennial, 2003. 160 p.
- Özdamar E. Mutterzunge. Erzahlungen. Berlin: Rotbuch Verlag, 2013. 127 p.
- Steen G.J. From Linguistic to Conceptual Metaphor in Five Steps//Metaphor in Cognitive Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 1999. P. 55-77.