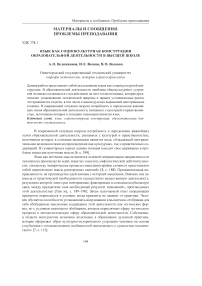Язык как социокультурная конструкция образовательной деятельности в высшей школе
Автор: Велижанина Анна Олеговна, Волков Илья Евгеньевич, Волкова Вера Олеговна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Данная работа представляет собой исследование языка как социокультурной конструкции. В образовательной деятельности проблема общекультурного устроения человека сталкивается с воздействием на него технологизации, которая предполагает упаковывание человеческой природы в заранее установленные рамки, что проявляется и в речи, в том числе в замене русских выражений иностранными словами. В современной ситуации назрела потребность в определении важнейших основ образовательной деятельности, связанных с культурой и нравственностью, источником которых в сознании индивидов является язык.
Язык, социокультурная конструкция, образовательная деятельность, высшая школа
Короткий адрес: https://sciup.org/146281372
IDR: 146281372 | УДК: 378.1
Текст научной статьи Язык как социокультурная конструкция образовательной деятельности в высшей школе
В современной ситуации назрела потребность в определении важнейших основ образовательной деятельности, связанных с культурой и нравственностью, источником которых в сознании индивидов является язык, обладающий неограниченными возможностями воспроизведения как культурных, так и нравственных содержаний. В гуманитарных науках данная позиция находит свое выражение в проблеме языка как источника мысли [6, с. 399].
Язык как источник мысли является основой генерализации направленности человека на производство идей, скрытых смыслов, мифологической действительности, «поскольку эмпирические процессы мышления крайне сложны и представляют собой переплетение массы разнородных явлений» [8, с. 188]. Принципиальная направленность на производство идей связана с историей мышления. Вначале она зависела от практической необходимости осуществлять вещественную деятельность, результаты которой, много раз повторяемые, фиксировали в сознании необходимую связь между предметами «как необходимый результат изменений», производимых этой деятельностью [Там же, с. 189–190]. Затем получаемый опыт координации предметов переносился в условия, когда предметы не зависят от практики. Человек обучается способности устанавливать координации в мышлении, отображая для себя обобщенные мысленные содержания этой деятельности как логические формы, но с условием некоторого обобщения, которое переключает сферу логического процесса в методологическую сферу образовательной деятельности. Собственно, в области методологии возможно включение в образование духовной практики, которая оформляет образ культурно-исторического устроения человека на основе углубленного «отождествления особенностей психического с сущностью космического» [7, с. 115].
В образовательной деятельности проблема социокультурного устроения человека сталкивается с воздействием на него технологизации, которая предполагает бесконечность власти над человеческой природой, ее упаковывание в заранее установленные рамки, а главное – подчинение целям, привнесенным со стороны во внутренний мир человека. Технологическое воздействие на человека проявляется в том числе и в литературном языке, в его смысловом свертывании, что видно, например, при замене русских языковых выражений иностранными словами.
Особое значение технологизация обретает в высшей школе. Студенческая среда уже интеллектуально переструктурирована на технологический язык, преобразующий сознание в виртуальное инобытие. Среда преподавателей высшей школы консервативна, что с трудом позволяет налаживать связи взаимного понимания этих двух сред. Самое главное – расхождение в языках. Язык виртуальной действительности агрессивен в отношении традиционных речевых операций формирования смысла. Противоречие усугубляется тем, что язык информационных технологий уничтожает традиционную речь, а с ней и духовное содержание достижимого с ее помощью смысла, прагматическим умонастроением, сопровождающим общее обессмысливание когнитивного развития личности в условиях высшего профессионального образования. Возрождается старая модель бихевиоризма – один стимул равно одна скудная фраза.
Вместе с тем концепция культурного наполнения языка и его действительность не является новой в истории культуры. В современных условиях открывается инновационный ресурс, скрытый в способности языка выражать смысл оптимально точным образом, генерируя социокультурную направленность человека в схемах, моделях, символах при любой технологической репрезентации. Жизненная сфера языка, несмотря на структурно-технологические трансформации, остается сферой гуманитарной безопасности человека.
В гуманитарных науках создана специальная «зона обороны», называемая поэтикой, которая остается прибежищем смысла и конкретным выражением духовного конструирования, в которой разделы языкознания «расходятся от слова и сходятся к слову» не только в научной, но и интуитивно данной, первичной категории языка [13, с. 471] Современные ученые так раскрывают эту мысль: язык «самым интимнейшим образом участвует в образовании понятий» [10, с. 24].
Следует отметить, что особый статус языка проявляется в соединенности с русским мировосприятием, ментальностью, склонностью русского человека и его философии к встрече с неожиданным и завораживающим на первых подступах к самой возможности помыслить обстоятельства, которые раскрываются в странности, чудотворчестве, отдалении от привычек и банальности. А. Ф. Лосев говорил о «тайне первого зачатия мысли», когда выведение категорий разума из до-категори-альной основы «несет с собою неразрешимую тайну, отбросить которую нельзя» и «превратить ее в ясно и раздельно решаемую задачу тоже нельзя». Тайна первого зачатия мысли, как утверждал А. Ф. Лосев, происходит в таинственной и «волшебной» обстановке, когда откуда-то возникает «светящаяся точка бытия», вокруг которой «закопошилась», заволновалась бездна и «хаос бытийных возможностей», превращаясь во «вселенское игрище воспламененного разума» [6, с. 402–408]. Следовательно, по-настоящему мыслить, развиваться человек может только при условии своего включения в общечеловеческое единение, скрытое в культуре, искусстве и, главное, – в данности ему родовым образом языка, открывающего в образовательной деятельности человеку образ своего «Я» [4].
Современная ситуация, сложившаяся в образовании, все более напоминает интервенцию западной ментальности в отечественное умонастроение. Мы не будем углубляться в эту проблематику, которая на уровне первичных интуиций известна всем профессионалам-педагогам, выращенным в советской образовательной системе и упорно сохраняющим традиции отечественной культуры в передаче собственного настроения ума, что пока ещё сопровождает образовательную деятельность, которая предстает священным, хотя и виртуальным феноменом воздействия на внутренний мир человека [2].
Под социокультурными конструкциями образовательной деятельности понимаются те ее области, для понимания которых требуется усилие отстранения от повседневности внешних обстоятельств, обращение к метапредметности, размышлению, углубленному восприятию действительности, превращенному в выразительные формы языка, неотделимые от мыслительного творчества, с одной стороны, и чувственной выразительности речи, с другой.
Разнообразие средств языка человека выступает в исследовательском пространстве педагогики в роли личностного центра сознания [12, с. 102], сохраняющего в себе лучшее, что дано человечеству в целом.
Социокультурное бытие личности выражается в сложном структурировании духовно-практической компетенции, следствием которого является многогранное личностное образование как созвучие регистров человеческой природы – физических, психических, чувственных, рациональных [3]. При этом представление о «созвучности регистров» можно раскрыть, например, с помощью современной «фрактальной семантики» – концепции XXI века, где лингвистические идеи синтезируются с идеями естествознания и философии. Фрактал в лингвистике – образование, подобное монаде Лейбница, когда множественность смыслов составляет источник их внутреннего действия [9].
Образовательная деятельность – обобщенное понятие, включающее действия педагогов и учащихся во всем комплексе, как во внешнем контуре, так и в контуре внутреннем. Она сложна, ее состав может быть представлен формализованными критериями (внешний контур), сущностными критериями (внутренний контур) и критериями перехода (феноменологический уровень бытия личности) из внешнего контура во внутренний.
Внешний контур составляет набор процедур, которые мы видим в аудитории, студенческих работах, контролирующих процедурах. Внутренний контур складывается благодаря размышлениям, философствованию, рефлексии о том, что реально происходит в жизни педагогов и учащихся в моменты их встречи и ее педагогической подготовки, что ведет к необходимости отдельной проработки уровня феноменологии.
Педагогика высшей школы должна утверждаться как общегуманитарная дисциплина, так как источник ее внешнего контура закладывается во внутренней лаборатории педагога, в ее методологии как метапредметного педагогического фундамента. Внешний контур будет эффективным для развития человека, а тем более для становления профессионала, только при вложении социокультурных усилий в контур внутренний. Именно тогда смысл образования – нахождение человеком своего «образа» – совпадет с целью образовательной деятельности.
Смысл и «ткань» общения студентов и педагогов опознается не в телесном опыте смотрения внешних обстоятельств (пришли, поздоровались, сидим, рассказываем, отвечаем, учимся), а в опыте усмотрения и переживания того, что происходит в движении от внешнего к внутреннему.
Взаимоотношения «студенческой среды» с сознанием, технологически преобразованным в виртуальное инобытие, предъявляет к преподавательской среде императивные требования к внутреннему изменению. Пространством углубленного диалога двух «сред» становится язык, предрасположенный к пониманию и выражению скрытых потенций взаимодействия «личностных центров сознания» как студентов, так и педагогов. Каждый шаг «внешней встречи» связан с появлением феноменологического уровня, когда восприятие переходит от внешнего очевидного обстоятельства к внутреннему углубленному, где формируются способности рассуждать, входить в состояния размышления, умственного рассмотрения предмета.
Феноменологический уровень связан с операциями поиска смысла, его нахождения и воздействия на развитие человека и создается в процессе познания особой действительности, которая отличается как от объективной, так и от субъективной представленности обстоятельств. На этом уровне язык составляет остов живой речи, опосредует собой психические содержания, упорядочивает вербальное общение, наполняя его знаковостью, образностью, символическими паттернами. Именно при включении феноменологического уровня традиционный язык преподавательской среды «врезается» в язык виртуальной действительности сознания студентов, начинает суггестивное переоформление мыслительной направленности, восстанавливает связь поколений не передачей информации, а обоюдным умственным взращиваем «зачатий мысли» в совместном размышлении над предметами изучения.
Соприкоснувшись с феноменологическим уровнем образовательной деятельности, человек обретает возможность сделать личное «открытие» как результат собственных рассуждений, сосредоточенного осмысления, озарения. Любой предмет изучения при включении феноменологического уровня становится предметом исследования.
Западная философия интерпретирует эту возможность как «событие». Французский феноменолог Клод Романо утверждает новый тип реальности, исключающий деление на субъект, объект и отношения между ними. Следуя идеям М. Хайдеггера и Э. Левинаса, он говорит, что в существовании человека особое значение обретает глагол «быть» не как самостоятельная сущность, но как бытие-событие [11, с. 53], в котором открываются чувства и приходит понимание смысла существования, становящиеся действующими персонажами образовательного тренда, проявляющиеся в языке и в слове как в его выразительной стихии.
Русская философия дает свою интерпретацию этого типа реальности как символической, где слово – символ, означающий соединение внутренних феноменов (переживания, чувства) с когнитивной деятельностью осознавания событий внешней действительности и его трансформации, в нашем случае, в педагогические действия.
Конструкция языка опирается на два взаимозависимых основания: языка как когнитивной системы и языка как живого творчества. Связь этих двух оснований создает базу аналитического управления не только речью, но и сферой воздействия на психику учащегося. При этом сохраняется одна сокровенная черта языка: язык воплощает в себе определенность человеческого бытия как «наличности» [5, с. 127]. Но мир не сводится к наличности. Он много больше того, что мы видим и слышим вокруг. Следовательно, язык является формой проецирования в мир Всеединства, а также собирания людей как саморазвивающихся через язык личностей.
Язык, в отличие от акустически и визуально материализованной речи, «зрится умом», готовым или не готовым к этой «встрече». Можно предположить:
насколько готов наш ум, наше сознание воспринять «мысли» языка, настолько он их качественно и столько количественно получит. «Вот неожиданная кибераналогия: родной язык – пользователь , а сам человек – его компьютер » [14, с. 4].
Язык, существующий скрытно, способен или/и должен проявиться при определённых условиях. Каковы эти условия проявления языка? Предполагаем, что опять-таки это - степень готовности и необходимости человеческого сознания воспринять исконные смыслы родного языка [1]. Язык не зависит от внешних, а существует и развивается по своим, то есть объективным законам, как, собственно, и всё окружающее человека и не созданное его интеллектом. В языке не существует ни архаизмов, ни историзмов, ни неологизмов (вот такое парадоксальное утверждение), язык – система с безграничным потенциалом, возможностями, которые, скажем так, «даются просящему».
Получается, что по сути единственное действие, которое имеет право человек совершать по отношению к языку, если, конечно, мы хотим жить и развиваться, самореализовываться гармонично, не нарушая, а созидая, изживая из себя горделиво-несозидательную позицию по отношению к окружающему миру, в том числе и к языку, – познавать, осваивать, вертикально подниматься к сути объективного явления.
Понимание в отношении своего выражения в языке создает пространство когнитивного моделирования культурного содержания знания. Оно обозначает духовную реконструкцию знания путем «попадания», «погружения» в сознание человека. Собственно «образование» опирается на этот факт сопричастности человека современному ему социуму и жизни в нем (социуме) культуры как таковой. Без этого погружения знание формализуется, а человек не будет иметь потребности в его реализации. Тогда и понимание будет частичным, временным и не будет соответствовать образовательной миссии.
Сообщение, попадающее в поле образовательной коммуникации, должно содержать в себе возможность понимания, что необязательно определяет факт реализации этой возможности. Возможность понимания предполагает «схватыва-емость» порождающего знания начала и способы его развертывания. Конструкция языка позволяет выделить образные и схематические когнитивные модели как естественные выразительные описания конкретных концептуальных форм знания, трансформирующих понимание событий внутреннего (сущностного) образовательного контура.
Данный образовательный контур должен выражать стремление к профессии, которая осваивается в понимании профильных текстов, являющихся также результатом естественной обработки языковых данных, относящихся к конкретной профессиональной деятельности. Наряду с понятийным аппаратом науки, на базе которой сформирована профессия, будущий специалист вынужден осваивать в вузе навыки построения когнитивных моделей отдельных профессиональных ситуаций. К сожалению, этот аспект в современной педагогике высшей школы представлен недостаточно.
Вместе с тем профессиональные когнитивные модели речевой активности составляют архитектонику феноменологического уровня при овладении любой профессией. В образовательную деятельность необходимо вводить методологию разработки этой архитектоники, так как именно на этой базе мышление человека оформляет личностный центр сознания посредством концептуальных систем языка как форм единой духовной конструкции человека. Профессионалом человек стано- вится тогда, когда вживание в профессиональный язык совмещается с когнитивным моделированием схематизмов осознавания материала обучения конкретной деятельности.
В итоге отметим, что основными чертами образовательной деятельности в вузе могут быть признаны те, которые своим источником имеют соединение когнитивных способностей людей с переживанием непознанного интимного характера языка, а именно: 1) направленность человека на идеи, скрытые смыслы, образы, метафоры и т. д.; 2) соединенность с русским мировосприятием, ментальностью, первичной данностью языка в составе культурно-исторической и социокультурной реальностей жизни народа, удерживающего свое национальное единство при помощи своих, а не чужих слов; 3) разнообразие способов (средств) применения языка, интерпретации, обуславливаемое личной потребностью, интересом как жизненной ситуации, так и конкретной личности; 4) возможность сделать личное «открытие» как результат собственных рассуждений, сосредоточенного осмысления, озарения.
Список литературы Язык как социокультурная конструкция образовательной деятельности в высшей школе
- Велижанина А. О. Духовно-воспитательный компонент житийной литературы//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 140-146.
- Волков И. Е. Социокультурное оформление воздействия виртуальной реаль ности на духовный мир человека//Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия: Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. 2016. № 4. С. 50-54.
- Волкова В. О. Духовная симфония человека: неклассический смысл. СПб.: Алетейя, 2014. 184 с.
- Волкова В. О. Онтологическая категория «Я» в образах прошлого, настоящего, будущего//Антропологическая аналитика: сб. науч. тр. Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т, 2015. С. 5-14.
- Деррида Ж. О грамматологии. М.: AdMarginem, 2000. 511 с.
- Лосев А. Ф. Са́ мое само́//Миф -Число -Сущность. М.: Мысль, 1994. С. 299-526.
- Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. 320 с.
- Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. 288 с.
- Петряков Л. Д. Методологические перспективы фрактальной семантики//Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки». 2017, № 8 (2). С. 148-153.
- Портнов А. Н. Роль языка в осознании действительности//Уч. зап Ивановского гос. ун-та. Т. 131. Диалектика сознания и познания. Иваново, 1974. С. 19-27.
- Романо К. Авантюра времени. М.: РИПОЛ классик, 2017. 220 с.
- Смирнов Г. С. Философия языка: парадигмальная транзитивность в творчестве А. Н. Портнова//Известия вузов. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 8 (2). С. 98-105.
- Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук. М.: Новое лит. обозрение, 2017. 616 с.
- Язык наш: поводырь наш в рай или в ад. СПб.: Изд-во Л. С. Яковлевой, 2001. 335 с.