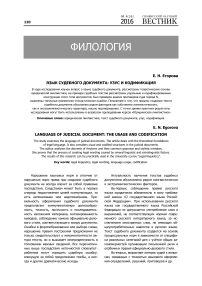Язык судебного документа: узус и кодификация
Автор: Егорова Екатерина Николаевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 4 (26), 2016 года.
Бесплатный доступ
В ходе исследования изучен вопрос о языке судебного документа, рассмотрены теоретические основы юридической лингвистики, на примере судебных текстов рассмотрены узуальные и кодифицированные конструкции этого типа документов. Был проведен анализ приговоров суда города N, выявлены типичные грамматико-стилистические ошибки. Положение о том, что процесс создания текста судебного документа обусловлен рядом факторов как собственно лингвистического, так и экстралингвистического характера, нашло подтверждение. С точки зрения практики результаты исследования могут быть использованы в вузовском преподавании курсов «Юридическая лингвистика».
Юридическая лингвистика, текст судебного документа, узус, кодификация
Короткий адрес: https://sciup.org/14114188
IDR: 14114188
Текст научной статьи Язык судебного документа: узус и кодификация
Нарушение языковых норм в отличие от нарушения норм права при создании судебного документа не всегда влечет за собой правовые последствия. Следствием может быть в первую очередь недостижение целей коммуникации, то есть непонимание или недопонимание. Правильность оформления судебного документа предполагает коммуникативную целесообразность, точность, логичность и последовательность изложения материала, мотивированность выводов, соблюдение канона официально-делового стиля, соответствующего жанру документа. Ошибка в формообразовании или выборе слова, нарушение правил построения предложения не только свидетельствует о некомпетентности автора текста, но и вызывает неопределенность в толковании важных сведений. Все перечисленные выше последствия неточностей словоупотребления могут породить судебную ошибку, влекущую за собой продолжение тяжбы, а иногда и другие драматические исходы.
Актуальность изучения текстов судебных документов обусловлена рядом лингвистических и экстралингвистических факторов.
Во-первых, соблюдение правил русского языка юридически обязательно в силу требований закона «О государственном языке Российской Федерации». При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Текст судебного документа создается на основе процессуальных норм в зависимости от специфики различных категорий дел с учётом общих закономерностей организации письменной речи и особенных правил официально-делового стиля.
Во-вторых, возрастает интерес судей к вопросам, связанным с точностью языкового оформления определений, решений, приговоров и др.
Важно также отметить синкретичность характера исследования текстов, находящихся на стыке лингвистики и права. Вопрос языка права как самостоятельного стиля также имеет ценность для юриспруденции. Однако такая син-кретичность, стыковка с «чужой» наукой несколько опасна. К сожалению, не всегда выводы лингвиста (или комментарии специалиста в области юрислингвистики) оказываются «конвертируемыми».
Исследованием текстов судебных документов занимались и занимаются ведущие специалисты авторитетных экспертных организаций — ГЛЭДИС, СИБАЛЭКС и др. (К. И. Бринев, Н. Д. Голев, М. В. Горбаневский, М. А. Осадчий, Т. В. Губаева, П. А. Катышев и др.).
Интерес учёных был связан с рейтингом проблемных мест в подготовке текстов решений (П. А. Катышев), грамматико-стилистическими особенностями юридических текстов (Т. В. Губаева), юридическим аспектом языка в лингвистическом освещении (Н. Д. Голев). Юристу о русском языке посвящены многочисленные труды Н. Н. Ивакиной, Ю. А. Воронцовой и др.
По словам Т. В. Губаевой, механизм работы с судебным текстом не может быть раскрыт во всех подробностях или представлен в виде справочника по делам всех категорий и по всем видам судопроизводства. Потому что лишь самые общие закономерности построения письменной формы речи поддаются описанию в некоторых правоприменительных ситуациях [1].
Лингвист, изучая текст судебного документа, обращается к синхронной и диахронной языковой системе (а иногда — к асистемным явлениям), к тенденциям, происходящим в языке, к источнику происхождения языкового факта, к его печатной фиксации. В результате анализа он оценивает языковой факт как допустимый или как недопустимый в литературной речи и фиксирует свое заключение в рецензии. Такая профессиональная оценка основывается на соотнесении языковых фактов, представленных в тексте, с фиксацией оценки того или иного языкового факта в справочниках и словарях. Кодификацию специалист, занимающийся вопросами юридической лингвистики, интерпретирует как свод правил современного русского языка и норм права.
Носитель языка и культуры не только мало занимается теоретическими разысканиями в родном языке, но даже, как правило, редко заглядывает и в нормативный словарь, чтобы познакомиться с кодифицированной нормой. И надо учесть, что юрист встречается в своем общении с разным кругом лиц. Однако и в этом слу- чае он руководствуется в своей речи привычностью языковых форм, бытующих в его коммуникативном и профессиональном окружении. Поэтому для рядового носителя языка часто — что обычно, то и правильно в языке. Это явление назовём узусом. Узус можно понимать как неосознанную и некодифицированную норму. Рассмотрим примеры контекстов, актуализирующих узус и кодификацию.
К узуальным контекстам отнесём конструкции типа: «Именем Российской Федерации», «в составе:», «в городе Архангельск», «осудить к», «по отбытию», «по приезду», «в виду» (в значении производного предлога), «согласно показаний», «согласно статьи», «в период времени», «в последствие», «на основании изложенного и руководствуясь», «вина доказана» и др.
В соответствии со списком узуальных выражений перечислим кодифицируемые контексты: «именем Российской Федерации», «в составе», «в городе Архангельске», «приговорить к» и «осудить на», «по отбытии», «по приезде», «ввиду» (в значении производного предлога, но «иметь в виду»), «согласно показаниям», «согласно статье», «в период», «впоследствии», «руководствуясь», «виновность доказана» и др.
Анализируя механизм процесса деформации языковой нормы, рассматривая вопросы, возникающие у юристов к лингвистам, на наш взгляд, можно обозначить алгоритм преодоления трудностей. Разумеется, очевидно, чем больше в лингвистическом труде начинает приниматься во внимание экстралингвистическая специфика юридической деятельности, тем больше вероятность выхода за пределы собственно лингвистки и сближения (в нашем случае) с юридической дисциплиной. Но всё же необходимо обозначить те языковые и внеязыковые факторы, которые оказывают влияние на создание текста судебного документа.
Один из экстралингвистических факторов — период подготовки документа. В зависимости от типа, содержания, специфики того или иного дела автору текста требуется время. Как известно, интенсивность и напряжённость труда судьи высока. Чтобы заменить языковую ошибку в тексте электронного документа (на экране монитора), нужно обладать при указанных коммуникативных условиях сверхъестественными способностями. Спустя время именно в печатном варианте мы начинаем видеть то, что не замечали в момент, когда работали над созданием текста.
Источники (прецедентные тексты) и традиции — ещё один экстралингвистический фактор. На стиль документов влияют в значительной степени сложившиеся в профессиональном обществе традиции. Так все пишут, следовательно, так правильно. Но, по-видимому, многие из прочно вошедших в практику стереотипов не во всем соответствуют как языковым, так и процессуальным нормам. Нередко коллеги заимствуют не только выигрышные фразы и ёмкие устойчивые обороты, но и неудачные конструкции, содержащие ошибки. Так возникает пласт лексики, которую юристы часто называют профессиональной, хотя её точнее назвать «псев-допрофессиональной» (например, речевая избыточность в лишней фразе: «будучи ранее судимым за…, на путь исправления не встал»). Казалось бы, текст закона — эталон, судьи обязаны переносить в текст судебного документа именно формулировку из текста закона. Проиллюстрируем, чтобы пояснить мысль. Филологи говорят: «видео-конференц-связь» надо писать, используя два дефиса. Юристы отвечают: в законе написано посредством одного дефиса — будем писать так, как в законе. В статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации читаем: «угроза убийством». С точки зрения норм литературного языка сочетание «угроза убийством» некорректно (при корректном глагольном управлении: «угрожать убийством»). Однако в качестве специфического юридического термина это сочетание устоялось.
Верховный Суд Российской Федерации на официальном сайте [4] иногда публикует материалы, в которых встречаются конструкции, содержащие грамматические неточности, но для судьи это авторитетный источник, поэтому он может использовать материалы в качестве шаблона. Рассмотрим типичную финальную фразу документа, опубликованного на сайте: «Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда в течение месяца…» . Благозвучно и правильно с точки зрения русской грамматики: «обжаловано (где?) в суде, (где?) в коллегии» .
В соответствии с официально-деловым стилем надо писать «Именем Российской Федерации» с прописной, а с точки зрения грамматики — со строчной. Ещё один вопрос для размышления. Выход — набрать заглавие документа прописными.
Наконец, существует так называемый человеческий фактор: авторы кодексов, законов, научной литературы могут ошибаться, а следовательно, надо смотреть на публикуемые сведения через призму объективности.
Прецедентными текстами (в ситуации подготовки судебного документа) выступают:
-
а) заимствования из материалов дела: «Они переоделись в одежду N, а свою одежду бросили в ванну, куда для отвода глаз бросили другую обнаруженную в квартире одежду» . Об отсутствии перевода устной речи в письменную форму свидетельствуют многочисленные повторы корня ( -де и его алломорфов -дежд ), устойчивые разговорные сочетания («для отвода глаз»). Речевая избыточность может быть объяснима только стремлением юриста воссоздать в деталях обстоятельства основного действия. Иногда только с комично-поэтичной интонацией можно прочитать «О том, какова была дальнейшая судьба телефона «iPhone 3G Black», утраченного N» ;
-
б) заимствования из судебных экспертиз. К примеру, широко представлены фрагменты судебно-медицинских экспертиз. В начале описательно-мотивировочной части при попытке раскрыть суть преступного деяния в первом абзаце возникает перегруженная (избыточная по смыслу) конструкция. Подробное цитирование данных судебно-медицинской экспертизы приводит к неизбежной потере логической межфразовой связи.
Необходимо отметить, что трудности в оформлении возникают чаще при подготовке вводной и резолютивной частей, а больше всего заимствований из «чужих» текстов можно встретить в описательно-мотивировочном фрагменте документа. К примеру, совмещая разнородные фрагменты, автор переходит порог стилистической оправданности: «Она судьбой септика не интересовалась, он выпал из её внимания»; «При осмотре труп раздевался и переворачивался» .
С лёгкостью можно определить, где в тексте судебного документа находятся заимствованные фрагменты из материалов дела, а где — исходный текст составителя документа. Главным показателем «своего и чужого» является грамотность.
Думается, при оформлении документа авторам следует обращать внимание на основные законы логики: это позволит исключить двусмысленные интерпретации, сделает переходы от композиционных частей легко воспринимаемыми, а межфразовые компоненты семантически едиными. Частотны следующие недочеты:
-
а) нарушения последовательности высказывания; отсутствие связи между частями и предложениями;
-
б) неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-
в) несоразмерность частей высказывания.
Медленное чтение текста печатного формата и возможность дать прочитать текст другому человеку (коллеге) — ещё одно условие для грамотного написания, ведь электронная версия содержит «слепые места».
Чтобы облегчить процесс восприятия сложного, но знакомого языкового материала, представим материал согласно языковым ярусам.
Среди языковых особенностей официальноделового стиля наибольшей рельефностью обладают его лексические средства, поэтому начнём комментарии с лексического яруса. В судебном документе занимают ведущую позицию стилистически нейтральные устойчивые обороты, употребление которых связано со стандартизиро-ванностью официально-делового стиля: «иметь значение», «играть роль», «причинить ущерб», «место нахождения», «обжалованию не подлежит», «в случае неявки», «по истечении срока» и т. д. Между тем наряду с процессом стандартизации происходит процесс фразеологизации деловой речи. Об этом свидетельствуют контексты, содержащие глагольно-именные словосочетания, которые в деловом языке становятся универсальным средством и используются вместо параллельных им собственно глагольных форм. Иногда избыток таких форм затрудняет восприятие смысла: «нападение в целях хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (разбой), с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших».
Весьма редко в текстах судебных документов можно встретить примеры речевой недостаточности: «Суд не может удовлетворить просьбу умершего о взыскании средств на погребение» (понятно, что пропущено слово «родственников» после слова «просьба»; вид ошибки — речевая недостаточность). Среди трудностей и погрешностей есть и такие явления, как парони-мия и речевая избыточность.
Отметим паронимы, которые входят в группу риска: «роспись — подпись», «оплатить — уплатить — выплатить — заплатить», «представить — предоставить», «вина — виновность», «закончить — окончить», «одеть — надеть», «проводить — производить». Охарактеризуем для примера узус и кодификацию некоторых из приведённых примеров.
Юристы, по мнению Н. Н. Ивакиной, воспринимают подмену слов «вина — виновность» как норму языка, так как эта погрешность зафиксирована в тексте закона [2]. В уголовном праве есть принцип вины (ст. 5 УК РФ), хотя в этой же статье (ч. 2) в термине «невиновное причинение вреда» слово «невиновное» обра- зовано от слова «невиновность» (от слова «вина» — прилагательное «виноватый»). Юридическим термином является пароним «виновность». Значит, в предложениях, содержащих эту лексему в тексте судебного документа, нужен пароним «виновность».
В текстах, к примеру, приговоров часто встречаются ошибки, связанные с употреблением однокоренных существительных «отбывание» и «отбытие» . «Отбытие» образовано от глагола совершенного вида «отбыть» и обозначает действие завершившееся, «отбывание» образовано от глагола несовершенного вида «отбывать» и обозначает действие незавершившееся, длительное. Поэтому в предложениях, обозначающих окончание наказания, нужно употреблять существительное «отбытие» , например, « был освобожден по отбытии наказания» . При назначении наказания, когда подсудимому еще только предстоит отбывать наказание, необходимо использовать существительное «отбывание»: «назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима» .
Речевая избыточность, как уже было упомянуто ранее, характерна для юридического дискурса, поэтому плеоназм, тавтологию, лишние слова можно отнести к узуальному, типичному в тексте: «период времени», «причинённый — причинён», «из оглашенных в порядке», «осмотра — осмотрен», «смс-сообщение», «CD-диск», «DVD-R-диск», « вину по предъявленному обвинению не признал » и пр.
Вместе с тем есть кодифицируемые повторы юридических терминов, которые обусловлены требованием предельной точности к формулировкам в тексте документа. Именно поэтому ограничены возможности синомических замен, так как замена слова может вызывать изменение оттенков значения.
Итак, на лексическом уровне причинами, приводящими к неточности, неясности и двусмысленности при составлении деловых и процессуальных документов, являются:
-
а) употребление слов в значении, не свойственном для литературного языка;
-
б) неумение пользоваться синонимами, паронимами, терминами, многозначными словами и омонимами;
-
в) нарушение норм лексической сочетаемости;
-
г) речевая избыточность;
-
д) редко — речевая недостаточность.
Чтобы преодолеть проблемы, связанные с изучением морфологии языка, авторам судебных документов можно обратиться к сведениям, опубликованным на таких интернет-ресурсах, как грамота.ру, грамма.ру [5, 6]. Трудными в морфологии для носителей русского языка и культуры, пожалуй, являются вопросы склонения имён нарицательных и собственных. Самым востребованным правилом склонения имён собственных (по опыту ответов на вопросы подобного типа) можно назвать правило склонения фамилий на согласный типа Новорец, Дружке-вич, Голь. Заметим, что они склоняются в том случае, когда обозначают лиц мужского пола (Розенталя Дитмара Эльяшевича). «Не склоняются они в письменной и официальной устной речи, если по звучанию совпадают с именами, с названиями профессий, животных, птиц, насекомых, предметов. В разговорно-бытовой речи наблюдаются случаи их склонения» [2].
Дмитрий Сергеевич Лихачев справедливо указывает: «Хороший язык не замечается читателем. Читатель должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать — к чему они относятся, что они «заменили». Избегайте только тех повторений, которые приходят от бедности языка. Отказ от склонения названий населенных пунктов особенно интенсивно пошел во время Великой Отечественной войны. В сводках с фронта: «Наши войска освободили город Рига», а не «город Ригу». Признаться, эта тенденция ведет к обеднению языка. Я предпочитаю вместо «живу в городе Ленинград», слышать — «живу в городе Ленинграде» [3].
Орфографические ошибки в судебных документах немногочисленны. Как правило, связаны основные трудности с неразличением грамматических омонимов. Например, предлог «вследствие» (из-за) следует отличать от существительного «следствие» в винительном («в следствие») и предложном («в следствии») падежах. Если можно заменить слово «вследствие» на слово «из-за», то «вследствие» нужно писать слитно, так как это предлог. В следующем узуальном контексте обнаруживаем ошибку в употреблении производного предлога «в соответствии»: «Экспертиза произведена в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства». Между тем при помощи непервообразных предлогов — простых («вследствие, согласно» и др.) и составных («за отсутствием, в соответствии с» и др.) в предложение могут вводиться обстоятельственные обороты. Подобные конструкции могут обособляться, если выполняются три условия: а) они располагаются между подлежащим и сказуемым; б) нахо- дятся не в начале и не в конце предложения; в) содержат объяснение того, о чем говорится в предложении, и выделяются интонационно. Пунктуационная трудность состоит в том, что их обособление не всегда уместно, а иногда даже ошибочно.
Точной и четкой передаче смысла и правильной интерпретации написанного текста способствует также грамотное членение текста. Текст судебного документа, оформленный в соответствии с пунктуационными правилами, будет истолкован адресатом именно с тем смыслом, который имел в виду его адресант.
В основе кодифицированной современной пунктуационной системы лежат три принципа: грамматический, смысловой и интонационный.
Как видно из результатов анализа судебных текстов, наибольшее количество пунктуационных ошибок свидетельствует о том, что авторы при реализации языковых явлений руководствуются преимущественно интонационным принципом правописания: пауза в устной речи — знак препинания. Чтобы преодолеть трудность, связанную с расстановкой знаков препинания на письме, нужно использовать в качестве доминантного принципа правописания грамматический, а не интонационный (второстепенный) принцип. Знаки препинания, употребляемые на основе первого, грамматического, принципа, отражают синтаксическое строение предложения.
Если пишущий задумается о структуре предложения с точки зрения наличия в ней предикативной (грамматической) основы (то есть подлежащего и сказуемого), а также вспомнит о конструкциях, которые требуют обособления (например, обособленных определениях и обстоятельствах, по морфологической природе знакомых нам как причастные и деепричастные обороты), то мысль пишущего будет выражена точно.
Так называемые лишние знаки появляются в текстах судебного документа вследствие стремления автора выделить и конкретизировать положение, по смысловой структуре неоднородное: обстоятельство времени невозможно уточнить посредством использования обстоятельства места.
Усложненность синтаксиса создается чаще всего за счет конкретизирующих распространителей в словосочетаниях и обилия рядов однородных членов. Дистанция между подлежащим и сказуемыми в первых предложениях описательно-мотивировочной части текста судебного документа может быть слишком велика.
Необходимостью детализации изложения и оговорок объясняется осложнение простых предложений многочисленными обособленными оборотами, однородными членами, часто выстраивающимися в длинную цепь пунктов и подпунктов. Все это влечет за собой увеличение размеров предложения (в том числе простого).
В многокомпонентных сложных предложениях часто нарушаются грамматические связи, пропускаются или необоснованно повторяются слова, изменяется традиционный (прямой) порядок слов ( «Все это длилось минут десять» ). Экстралингвистическая причина — заимствование из материалов дела. Вследствие этого актуализация смысла в таких конструкциях затруднена.
Нарушение прямого порядка слов в официально-деловом стиле недопустимо. Инверсионный порядок слов создаёт в тексте экспрессию, актуализирует категорию модальности (то есть отношение автора к тексту). Юридический язык характеризуется как язык точный, меткий, объективный.
Именно прямой порядок слов позволяет логично выразить нормы права, а также все обстоятельства дела. А использование однотипных синтаксических структур может привести к потере смысла: от многочисленных повторов неизбежно снижается концентрация внимания.
Таким образом, результаты анализа текстов (преимущественно приговоров и решений) свидетельствуют о том, что язык судебного документа находится на пересечении конкурирующих между собой и вместе с тем дополняющих друг друга сфер (см. рис. 1).
Ретроспективная норма (традиция)
|
Официальноделовой стиль |
Язык судебного |
Юридический жаргон (асистемная |
|
(системная норма) |
документа |
норма) |
Дескриптивная норма (узус)
Рис. 1. Виды языковых норм
Ретроспективная норма («так следовало бы написать») предполагает обращение к традиционной системе фиксирования информации. Разъясним функционирование ретроспективной нормы посредством устойчивых элементов вводной части документа. Отметим, почему обозначение даты должно предшествовать обозна- чению места. Правила написания даты и места принятия судебного документа основаны на нормах русского синтаксиса: в официальной письменной речи принят прямой порядок слов, а следовательно, обстоятельство времени всегда ставится перед обстоятельством места. В качестве ещё одного примера функционирования ретроспективной нормы выступает тот факт, что особого правила, регламентирующего постановку двоеточия после слов «по адресу», в русском языке нет, однако есть традиция, согласно которой мы оформляем предложение с анкетными данными, используя этот знак.
Дескриптивная норма регистрирует узуальные предпочтения носителя языка и культуры. Относительно устойчивы и удобны в профессиональном обиходе юристов такие формулы, как «представившего ордер № от 11.01.2010 и удостоверение № 33 от 20.11.2011» . Между тем их употребление нежелательно, потому что не вполне соответствует норме. Использование однотипных оборотов подобного рода может осложнить конструкцию вводной части документа.
Официально-деловой стиль интерпретируется нами как системное явление, «обслуживающее» два важнейших уровня юридического языка, а именно: язык законов (и иных нормативных актов) — законодательный подстиль; язык других юридических документов — обиходно-деловой подстиль. Как известно, иногда нормы официальной документации противоречат рекомендациям лингвистов, к примеру, с точки зрения лингвиста, инициалы предшествуют фамилии, что противоречит позиции делопроизводителей.
В качестве асистемного процесса указываем на искусственно созданный юристами юридический жаргон (нетипичная форма для литературного языка). Выше нами было отнесено к узуальному выражение «судимого к…» . Поясним это асистемное явление, типичное для юридического языка. «Судимого… к лишению свободы на…» — невозможно с точки зрения грамматики русского языка: «судимый кем-то, осужденный кем-то на что-то, приговоренный кем-то к чему-то» . Глагол «осудить» управляет существительными в винительном падеже (без предлога и с предлогом «НА»), что является нормой русского литературного языка. Правильный вариант: «осудить и приговорить к лишению свободы» . Одной из причин ошибки является влияние смысловой близости слов «осудить» и «приговорить» .
Из-за существующих тенденций в современном русском языке практически недостижи- мым кажется искомое — грамотно оформленный судебный документ. Язык правовой сферы, являясь частью литературного языка, обладает строгими правилами и системными закономерностями, которые подчиняют себе юридический текст. Фиксация рассмотренных языковых форм и контекстов в справочниках и учебниках для юристов совершенно необходима обществу.
-
1. Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. М. : Норма, 2004.
-
2. Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста. М., 2010. С. 167.
-
3. Лихачев Д. С. Русская культура. М. : Искусство, 2000. С. 367.
-
4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 11.07.2016).
-
5. Справочно-информационный портал «Грамота.ру — русский язык для всех». URL: http://www.gramota.ru (дата обращения: 12.07.2016).
-
6. Справочный портал «Культура письменной речи». URL: http://www.gramma.ru (дата обращения: 12.07.2016).
Список литературы Язык судебного документа: узус и кодификация
- Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности. М.: Норма, 2004.
- Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста. М., 2010. С. 167.
- Лихачев Д. С. Русская культура. М.: Искусство, 2000. С. 367.
- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 11.07.2016).
- Справочно-информационный портал «Грамота.ру -русский язык для всех». URL: http://www.gramota.ru (дата обращения: 12.07.2016).
- Справочный портал «Культура письменной речи». URL: http://www.gramma.ru (дата обращения: 12.07.2016).