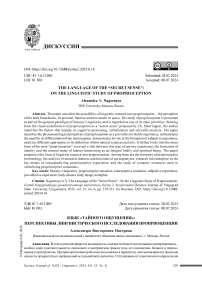Язык "тайного ощущения": перспективы лингвистического исследования проприоцепции
Автор: Нагорная А.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 6 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается возможность лингвистического исследования проприоцепции - особого вида чувствительности, связанного с восприятием границ тела, его положения, баланса и перемещения в пространстве. Проприоцептивная проблематика вписана в парадигму лингвосенсорики и признана одним из приоритетных направлений ее дальнейшего развития. Отталкиваясь от классического определения проприоцепции как «тайного ощущения» (Ч. Шеррингтон), автор рассматривает различные факторы, препятствующие ее осмыслению, выводу в речь и научному анализу. В статье охарактеризована феноменологическая специфика проприоцепции как предрефлексивного телесного опыта, обоснована необходимость ее отграничения от интероцепции, показана ее роль в формировании субъективного опыта человека, проанализированы различные подходы к ее определению в рамках естественных и гуманитарных наук, уточнены границы понятия с учетом лингвистической перспективы исследования. В результате обращения к внутренней форме термина «проприоцепция» выявлена связь этого вида чувствительности с процессом формирования идентичности и обеспечением нормального режима функционирования человека как целостного телесно-духовного существа. Определены возможные направления исследования проприоцепции в современной лингвистике, включая каталогизацию терминов-перцептонимов, уточнение их семантического объема и установление их функциональной нагрузки, изучение метафоры как главного средства осмысления и вывода в речь проприоцептивного опыта, анализ синтаксических структур, используемых для вербализации проприоцептивных ощущений.
Лингвосенсорика, проприоцептивное ощущение, интероцептивное ощущение, субъективный опыт, предрефлексивный опыт, схема тела, образ тела, метафора
Короткий адрес: https://sciup.org/149147510
IDR: 149147510 | УДК: 81’1:612.885 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.6.16
Текст научной статьи Язык "тайного ощущения": перспективы лингвистического исследования проприоцепции
DOI:
Одним из наиболее интересных и динамично развивающихся направлений современного языкознания является лингво-сенсорика (см.: [Нагорная, 2017]). Изначально она возникла как «область лингвистического знания, которая занимается языком перцепции, вербальной репрезентацией показаний пяти органов чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния» [Харченко, 2012, с. 6]. За последнее десятилетие, однако, с появлением отчетливой установки на междисциплинарное взаимодействие все более очевидной становится необходимость расширения исследовательской перспективы с учетом тех представлений о человеческом сенсориуме, которыми руководствуются современные физиологи и психологи, а отчасти и специалисты в области культурной антропологии.
Особую эвристическую ценность имеет базисная для физиологии трехчастная модель сенсориума, которая была предложена в начале ХХ в. Ч. Шеррингтоном [Sherrington, 1906] и, несмотря на некоторые разночтения в последующих интерпретациях, не утратила актуальности до настоящего времени. Шеррингтон выделил следующие группы ощущений: 1) экстероцептивные, которые возникают при воздействии на рецепторы, расположенные на поверхности тела; 2) интероцептивные, обусловленные процессами, происходящими во внутренней среде организма, и 3) проприоцептивные, которые возникают при раздражении рецепторов, расположенных в опорнодвигательном аппарате.
Следуя данной классификации, мы вынуждены признать, что до недавнего времени лингвосенсорика действовала в весьма ограниченном диапазоне, фокусируясь исключительно на экстероцептивных ощущениях и оставаясь слепой к двум другим составляющим человеческой чувственности. Лингвистическое освоение интероцепции началось лишь около десяти лет назад [Нагорная, 2014]. Проприоцепция же по-прежнему является исследовательской лакуной. Ее заполнение важно не только для планомерного развития лингвосенсорики, но и для профессионального участия языковедов в решении ряда теоретических и практических задач, которые стоят перед смежными сенсорно ориентированными науками, представители которых так или иначе полагаются в своих изысканиях на словесные описания разных видов опыта. Среди этих задач системное изучение феноменов субъективной реальности в философии и психологии [Дубровский, 2013]; повышение эффективности телесно-ориентированной терапии [Lowen, 1993]; коррекция речевых расстройств [Clinical Management..., 1997]; развитие нейропсихологии [Лурия, 1982]; продвижение нарративной медицины [Charon, 2006] и множество других.
Результаты и обсуждение
Проприоцепция как «тайное» ощущение
Признавая важность изучения проприоцепции, мы отнюдь не склонны приуменьшать сложность этой задачи. Еще Ч. Шеррингтон называл проприоцептивные ощущения «тайными» или «секретными» ( secret ) [Sherrington, 1906]. Эта «секретность» имеет множество проявлений и обнаруживается как на первичном экспериенциальном уровне (уровень воспринимающего субъекта), так и на уровне объективного научного анализа.
Сам Шеррингтон под секретностью понимал то, что современные исследователи называют «экспериенциальной прозрачностью» [Ataria, 2018, p. 33]: неосознаваемый характер проприоцептивных ощущений, их скрытость от рефлексирующего разума, роль не замечаемого «феноменологического фона» [Dainton, 2008] для всех видов человеческой деятельности.
Подчеркнем, однако, что «неосознавае-мость» не следует понимать как вне рефлек-сивность, принципиальную недоступность сознанию. С позиций феноменологической философии, которая доказала свою состоятельность и перспективность при исследовании сенсорики, «секретность» проприоцептивных ощущений носит до- или предрефлексивный характер [Gallagher, 2019, p. 9].
Определяя сущность предрефлексивно-сти, Ш. Галлахер называет ее «имплицитной осознанностью первого порядка»: формой осознанности, которая возникает до того, как мы начинаем рефлексировать над нашим опытом. Она не связана со специфическим экс-периенциальным содержанием, не имеет ни диахронического, ни синхронического измерения, поскольку не предполагает аккумулирования, структурирования и систематизации опыта. Она является по сути знакомством с самим собой, которое носит ненаблюдательный характер (non-observational selfacquaintance) [Gallagher, 2019, р. 10]. Это глубинный, базовый, низший слой самосознания, на котором формируется фундамент для освоения грамматики местоимения «я» [The Body and the Self, 1998, р. 153]. Это значит, что проприоцепции принадлежит ведущая роль в формировании чувства идентичности. Не случайно некоторые исследователи эксплицитно называют проприоцепторы «рецепторами для Я» (receptors for self) [Kaya, Yertutanol, Calik, 2018, p. 5]. Более яркий образ предлагает О. Сакс, описывая проприоцепцию как «место органической швартовки идентичности» (organic mooring of identity) 1 [Sacks, 2022, p. 56].
В связи с этим обратим внимание на внутреннюю форму термина «проприоцепция». В отличие от «экстероцепции» и «интероцеп-ции», которые отражают скорее формальные, локализационные признаки соответствующих ощущений, термин «проприоцепция» исполнен глубокого, философского смысла. Шеррингтон осознанно заложил в него идею собственности ( property ), подчеркивая, что благодаря этому типу ощущений мы можем воспринимать свое тело как принадлежащее именно нам [Sherrington, 1906].
Заметим, что идея собственности по отношению к своему телу, владения им неоднократно становилась объектом рефлексии в философии и психологии. Исследователи справедливо отмечают, что мы не можем владеть телом в том же смысле, в каком мы владеем приобретенными нами предметами. Термины «владение» и «собственность» предлагается считать метафорами, не отражающими подлинной сути нашего отношения к своему телу [Owning a Body..., 2019, р. 8], за исключением ситуаций, когда обсуждаются соматические права личности, в том числе право на распоряжение биоматериалом. В работах феноменологического толка чаще используется намеренно нейтральный, предельно семантически обобщенный термин mineness («принадлежность мне») или experience of mineness (опыт принадлежности мне) (см., например: [Guillot, 2017]). Суть mineness становится более понятной в противопоставлении двум другим экспериенциальным феноменам: for-me-ness (опыт «для меня»), осознание качественных характеристик самого опыта, через который проходит человек, и me-ness (опыт «я», или опыт самости), осознание того, что через этот опыт проходит именно сам человек [Guillot, 2017, p. 47].
В отсутствие органических и психических патологий все три эти компонента оказы- ваются связанными между собой и предполагают друг друга. При этом mine-ness является наиболее глубинным, базисным, а два других компонента есть его производные, включающие компонент рефлексии [Gallagher, 2019, p. 8].
В этой «нормальной» ситуации проприоцепция раскрывает еще один свой феноменологический и семантический секрет: в ней обнаруживается смысл «правильности» ( proper ), на который указывает О. Сакс [Sacks, 2012a, p. 50]. Именно проприоцептивная информация, задающая фон нашей повседневной жизни, обеспечивает нам ощущение «нормальности» бытия, гармонии со своим телесным началом и с окружающим миром, «правильности» происходящего.
Есть множество ситуаций, в которых «тайное» проприоцептивное ощущение обретает непривычную и далеко не всегда комфортную для человека «явность». «Явление» проприоцепции сознанию происходит при освоении сложных моторных действий (отработка техники движений в спорте и танцах, при игре на различных музыкальных инструментах, использовании орудий и т. п.); при нарушении привычных автоматизмов в результате травм, неврологических расстройств, послеоперационных ограничений; при возникновении ряда психических нарушений (шизофрения, сома-топарафрения, деперсонализация и др.); при обучении популярным ныне медитативным практикам, требующим концентрации на собственных телесных ощущениях и др.
Явным может стать не только присутствие, но и отсутствие проприоцепции. Как пишет О. Сакс, если в не замечаемом нами тайном ощущении возникает нарушение или искажение, мы испытываем чрезвычайно странное, почти невыразимое чувство – перцептивный эквивалент слепоты или глухоты [Sacks, 2022, p. 76].
Упомянутая Саксом «невыразимость» – это еще одна грань секретности проприоцепции, которая особенно актуальна для лингвистического ее исследования. Трудности с выражением этого вида опыта в значительной степени связаны с неочевидной представленностью проприоцепции в языке. Как и в случае с интероцептивными ощущениями, мы сталкиваемся с крайней дефицитарностью словаря, со скудостью готовых, понятных всем и рекомендуемых к употреблению вербальных средств выражения соответствующих переживаний.
Обратим внимание на важную оговорку – «почти» невыразимое. Проприоцепция все же репрезентируется в языке. Однако при попытке обнаружения и систематизации этих языковых средств мы выявляем еще одну грань «секретности» проприоцепции, которая проявляется на уровне научного анализа.
Термин «проприоцепция» обнаруживает крайне неудобную пластичность, меняя свой семантический объем от исследования к исследованию. Несмотря на то, что все авторы так или иначе отталкиваются от классификации Ч. Шеррингтона, они часто предлагают неоправданно узкие или столь же неприемлемо широкие определения проприоцепции. Так, весьма авторитетный психолог А. Фогель определяет проприоцепцию исключительно как «ощущение движения» ( our sense of movement ), эксплицитно противопоставляя ее схеме тела, к которой он относит ощущение размерности, положения и формы тела [Fogel, 2009, p. 15]. Другие исследователи определяют проприоцепцию чуть шире, как ощущение положения тела в пространстве, которое связано с двигательным контролем [Santuz, Zampieri, 2024, p. 20]. Более крупный фокус представлен в статье У. Проске и С. Гандевии, где под проприоцепцией понимается ощущение положения тела (прежде всего конечностей), передвижения, напряжения и усилия, а также баланса [Proske, Gandevia, 2012, р. 1651].
Во всех вышеперечисленных случаях исследователи все же идут за Шеррингтоном, действуя в пределах заданных им феноменологических координат и концептуальных ограничений. Однако в последнее время наметилась тенденция к размыванию границ между предложенными им категориями. Проприоцепция часто объединяется с интероцепци-ей по сугубо формальному пространственному признаку: оба вида ощущений локализуются внутри тела. Весьма показательно в этом отношении определение, данное С. Делланто-нио и Д. Пасторе: проприоцептивной является перцептивная информация о том, что происходит внутри нас [Dellantonio, Pastore, 2012, p. 14]. К проприоцепции они относят ощущение движения, положения тела, а также любое ощущение, связанное с общим состоянием тела и отдельных его частей. Этой же позиции придерживается С. Ивасаки при изучении способов вербализации проприоцептивных ощущений в тайском языке [Iwasaki, 2002]. Он использует термин «проприоцептивный» как антоним «экстероцептивного», покрывая им две внутрителесные сферы: собственно проприоцепцию и интероцепцию. В результате в категорию проприоцептивных ощущений попадают головная боль, ощущение усталости и даже эмоциональные состояния, что противоречит не только устоявшимся трактовкам перцепции, но и здравому смыслу.
Известны и попытки полностью нейтрализовать оппозицию внешнетелесное – внут-рителесное. Так, Дж. Гибсон утверждает, что общепризнанные пять экстероцептивных ощущений предоставляют человеку как экстеро-цептивную, так и проприоцептивную информацию. При этом он переосмысляет само понятие проприоцепции, трактуя этот вид ощущений как эгорецепцию , ощущение самого себя, а не как специфический канал сенсорной информации либо совокупность каналов. Коль скоро определенная перцептивная система начинает снабжать человека информацией о том, каким видом деятельности он занят, она становится «проприочувствительной» и входит в проприоцепцию [Gibson, 2013, p. 115].
Такой перцептивно-классификационный глобализм отчасти отражает реальную феноменологическую сложность сенсорного опыта. Многочисленные исследования и практические наблюдения над людьми, страдающими различными неврологическими расстройствами, доказывают, что в отсутствие привычных проприоцептивных стимулов они используют зрение и осязание для того, чтобы «прочувствовать» положение собственного тела и обеспечить себе возможность перемещения в пространстве (см., например: [Saulton, 2017, p. 11]). Таким образом, четкое разграничение видов сенсорного опыта возможно лишь в теории, на практике же разные сенси-билии образуют сложные интегративные комплексы, в которых их традиционная функциональная нагрузка перераспределяется. Упомянем еще одно важное обстоятельство: нарушение схемы тела может функционально компенсироваться активацией образа тела – системой осознанных представлений о собственном устройстве [Body Schema..., 2021, p. 24]. Четкое осознание того, где находятся отдельные части тела, позволяет совершать привычные моторные действия, пусть и в несколько редуцированном формате, даже в условиях дефицита перцептивной информации (см.: [Gallagher, 2005, p. 24]). Вспомним в связи с этим предложение Л. Талми о введении в научный обиход понятия «цепция», которое позволило бы не только снять вопрос о разграничении разных видов ощущений, но и нейтрализовать давнюю полемику о целесообразности противопоставления ощущения и восприятия, «перцепции» и «концепции» [Talmy, 2000].
Совершенно очевидно, что такой концептуальный разнобой не только мешает изучению проприоцепции в рамках дисциплин, традиционно ориентированных на исследование сенсорики, но и создает серьезные препятствия для реализации междисциплинарных проектов. Особенно контрпродуктивен он для лингвосен-сорики, поскольку объем и содержание словаря проприоцепции будет неизбежно определяться тем, какой ее трактовки (узкой или широкой) придерживается исследователь.
Исходя из нашего опыта работы с теоретическими источниками и практическим текстовым материалом, а также значительных наработок в области лингвистического исследования интероцепции [Нагорная, 2014], мы считаем наиболее валидной такую трактовку проприоцепции, при которой в эту категорию включаются ощущения границ тела, его положения в пространстве, перемещения и баланса [McLaren, 2010, p. 47]. Именно она обеспечивает исследовательскую преемственность в междисциплинарной перспективе и отвечает потребностям лингвосенсори-ки, позволяя более точечно и методологически выверенно cфокусироваться на изучении этого качественно своеобразного ощущения.
Заслуживает внимания предложение К. МакЛарен о включении в проприоцепцию ощущения собственных пределов досягаемости в окружающем пространстве [McLaren, 2010, p. 47]. Эта идея коррелирует с чрезвычайно популярными экологическими концепциями телесности (см., например: [Gibson, 2013]). Согласно этим концепциям, проприоцепция вместе с другими видами ощущений снабжает человека прагматически ориентированным осознанием тела (pragmatic bodily awareness) [Gallagher, 2019, p. 13], и основная ее функция заключается в том, чтобы обеспечить ему возможность действовать в условиях наличествующей среды, с учетом актуальных на данный момент аффордансов [The Body and the Self, 1998, p. 155]. Заметим, что и А. Фогель при описании схемы тела говорит о важности координации между нашим телом и окружающей средой [Fogel, 2009, p. 11]. «Пределы досягаемости» представляются проблемой, актуальной для дистантных экстероцеп-тивных (зрение, слух и обоняние) и проприоцептивных ощущений. Здесь, однако, следует соблюдать некоторую осторожность. Нам представляется, что ощущение границ досягаемости несколько выбивается из проприоцептивной парадигмы, поскольку оно возникает в результате направленного перцептивного акта и включает элемент рациональной оценки для принятия более или менее осознанного решения по поводу совершения того или иного действия. На данном этапе мы предпочли бы воздержаться от включения этого компонента в состав проприоцепции.
Возможные направления исследования проприоцепции в рамках лингвосенсорики
Изучение феномена проприоцепции, безусловно, относится к одним из приоритетных направлений дальнейшего развития лингвосен-сорики. Заметим, однако, что проприоцептивная проблематика может оказаться актуальной и для фундаментальной лингвистики с учетом усиления в ней когнитивистских идей, течений и концепций. Так, в настоящее время все бóльший научный вес и методологическую востребованность обретает теория воплощенного значения. Ее центральный постулат заключается в том, что значение формируется под воздействием процессов, происходящих в человеческом теле, и обусловлено, главным образом, его сенсорно-моторными возможностями, а также способностью испытывать чувства и эмоции [Johnson, 2007, p. 9].
Последовательное применение принципов теории воплощенного значения все чаще приводит исследователей к мысли о том, что многие веками устоявшиеся языковедческие конвенции требуют пересмотра. Приведем лишь один, но весьма показательный, пример, который непосредственно связан с обсуждаемой в статье проблемой: по мнению С. Дел-лантонио и Л. Пасторе, содержание категории «абстрактные существительные» необходимо подвергнуть ревизии. Из нее нужно исключить те единицы, семантика которых явно коренится в проприоцептивном и интероцептивном опыте, всегда носящем восчувствованный, а следовательно – конкретный, характер. Сюда относятся слова типа movement (движение), pain (боль), hunger (голод), exhaustion (изнеможение) и т. п. [Dellantonio, Pastore, 2012, p. 16].
Задача исследователя, работающего в проблемном поле лингвосенсорики, заключается, главным образом, в максимально полной каталогизации языковых средств, используемых для вывода в речь проприоцептивных ощущений, и их последующей систематизации.
Первой в поле зрения лингвиста попадает лексика. На сегодняшний день относительно изученным оказывается лишь один аспект проприоцепции – кинестетический. Его исследованием в основном занимаются когнитивисты, поскольку опыт движения признается важнейшим фактором познавательной и смыслосозидающей деятельности человека. Исследуется событийная схема движения [Langacker, 1987; Mani, Pustejovsky, 2012], определяются те его аспекты, которые могут быть положены в основу классификации лексики, репрезентирующей данный вид опыта [Cardini, 2008]. Важно подчеркнуть, однако, что эти исследования проводятся в основном без привязки к собственно сенсорному, восчувствованному опыту движения. Их главная цель заключается в анализе той кинетической динамики, которая может получить объективную оценку и быть закрепленной в семантике слова. В фокусе внимания оказываются такие характеристики движения, как направление, вектор, траектория, скорость, способ перемещения и т. д. Это как бы взгляд на движение «извне», с позиции стороннего наблюдателя, в то время как лингвосенсорика исходит из «внутренней» перспективы субъекта-перцептора. Тем не менее, эти наработки могут служить полезным ориентиром при изучении словаря проприоцепции. Используя уже созданные классификации, можно ввести дополнительные «сенсорные» параметры для отбраковки лексики, которая не репрезентирует восчувствованный опыт движения. Так, глаголы, обозначающие перемещение с помощью транспортных средств (например, canoe – перемещаться на каноэ) и акустические характеристики движения (например, whistle – проноситься со свистом), очевидно, не принадлежат проприоцептивному словарю. В то же время предикаты, профилирующие параметры «сила» (barge – вламываться), «вес» (trundle – тяжело переваливаться), «непрерывность» (flow – струиться) и др., вероятно, могут использоваться для обозначения ощущений, локализуемых в опорно-двигательном аппарате. Этот вопрос, однако, требует тщательной проработки на большом массиве текстового материала, поскольку даже при самом поверхностном рассмотрении становится ясно, что выделенные ранее категории лексики «сенсорно» разнородны. Так, среди предикатов, профилирующих траекторию движения, есть как те, которые вряд ли могут обозначать ощущение (например, orbit – вращаться вокруг чего-то), так и те, которые прочно коренятся в телесных (проприоцептивных) динамиках. К ним, например, относятся zigzag (делать зигзаги) и arc (образовывать дугу, вставать дугой) (см.: [Johnson, 2007, p. 26]). Таким образом, даже в этой достаточно хорошо изученной сфере остается множество непроработанных лингвосенсорикой аспектов. Заметим, что новый, «сенсорный» ракурс исследования лексики движения полезен и для лингвистики в целом, поскольку он позволит выявить дополнительные семантические и прагматические параметры лексических единиц, что важно для лексикографии.
Что касается остальных аспектов проприоцепции, то здесь скорее можно говорить о некоторых перспективах исследования, чем о каком-либо серьезном научном заделе.
Одной из таких важнейших перспектив является изучение метафорики проприоцептивных ощущений. Наш опыт работы с языком интероцепции показывает, что отсутствие семантически узких, терминоподобных «перцеп-тонимов» отнюдь не означает, что соответ- ствующее ощущение не выводится в речь. Дефицитарность словаря qualia успешно компенсируется разнообразием метафорических средств выражения.
Чрезвычайно важным представляется нам то обстоятельство, что валидность метафоры как средства вербализации проприоцептивных ощущений подтверждается специалистами-неврологами. Особенно ценными являются наблюдения, которыми делится с нами О. Сакс. Многолетний опыт работы с пациентами, страдающими неврологическими расстройствами, в том числе и различными формами проприоцептивного дефицита, привел его к пониманию того, что наиболее «базовые», «основополагающие» вопросы ( fundamental questions ) – «Как ты?» и «Каково это?» – в принципе не допускают терминологически точных, буквальных ответов. Они могут быть адекватно сформулированы лишь с помощью аналогий, аллюзий, образных сравнений ( as if ), метафор и других средств, обладающих свойством эвокативности [Sacks, 2012b]. Под эво-кативностью понимается способность используемой формы порождать в сознании адресата яркий, наглядный образ, вызывающий у него эмпатийный отклик. Такой отклик важен, поскольку проприоцептивные переживания составляют часть субъективной реальности человека, недоступной никому другому. Открыть эту реальность другому и сделать ее понятной можно, лишь адресовав слушателя к тем фрагментам опыта, которые хорошо ему знакомы и вызывают схожую эмоциональную реакцию. Именно эту функцию выполняют перечисленные Саксом средства, которые в рамках современной когнитивной лингвистики часто рассматриваются как разные проявления концептуальной метафоры (см., например: [Steen, 2015]). Говоря словами О. Сакса, только метафора позволяет нам сформулировать почти неформулируемое, чтобы передать почти не передаваемое [Sacks, 2012b, p. 8]; только метафора способна дотянуться до непередаваемого [Sacks, 2012b, p. 226].
Метафора позволяет не просто передать проприоцептивный опыт, но и максимально индивидуализировать его описание, сосредоточившись на наиболее значимых его нюансах и оттенках. При этом человек может использовать те ассоциативные связи, которые соответствуют его интеллектуальным и эмоциональным возможностям и потребностям, а также коррелировать с его общим жизненным опытом. Приведем здесь лишь два примера из известной книги О. Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» [Sacks, 2022]. Одна из его пациенток полностью утратила ощущение собственного тела и могла управлять им только в том случае, если видела свои конечности. Если наблюдение за телом было невозможно, она испытывала ощущение полной бестелесности. Выявив эту закономерность, женщина пришла к очень интересной метафорической трактовке проприоцепции, назвав ее «глазами тела». Развивая эту метафору, она пришла к пониманию проприоцептивного дефицита как «слепоты тела» [Sacks, 2012b, p. 47–58]. Заметим, что несмотря на идиосинкразический характер этой метафоры, она была признана Саксом не просто удачной, но и коммуникативно универсальной, подходящей не только для описания этого конкретного случая, но и для объяснения сущности проприоцепции в целом. Другой пациент использовал ассоциацию, навеянную его профессиональной деятельностью. Плотник по профессии, он описывает нарушение чувства баланса как неисправность установленного в мозгу ватерпаса – прибора, используемого для определения степени соответствия поверхности горизонтальной или вертикальной плоскости [Sacks, 2012b, p. 77]. Примечательно, что Сакс вновь оказывается впечатлен не только яркостью образа, но и его соответствием «физиологической истине»: орган баланса, действительно, работает именно по такому принципу. Оба эти примера наглядно доказывают, что проприоцепция является пусть и «скрытой», но все же интеллигибельной реальностью, которая может репрезентироваться в речи, причем метафора является наиболее эффективным инструментом передачи именно восчувствованного изнутри опыта.
Принципиально важно то, что при широком разнообразии потенциально возможных личностно значимых ассоциаций наблюдается выраженная системность в метафоризации проприоцепции, устойчивое употребление одних и тех же образов разными пациентами. Подчеркнем, что речь идет не только о базовых ориентационных метафорах (человек
«опускается» в болезнь и «поднимается» к здоровью), но и более сложных формах (человек устремляется из «тьмы» заболевания к «ясному свету» здоровья) [Sacks, 2012b, p. 241]. Значимо и то, что способность к ме-тафоризации обнаруживается практически у всех больных с минимально сохранным интеллектом [Sacks, 2012b, p. 8], что свидетельствует об универсальности метафорической стратегии коммуникации перцептивного опыта и необходимости учета метафорических номинаций при составлении номенклатуры тер-минов-перцептонимов.
Некоторые паттерны метафоризации проприоцепции можно выявить на основе анализа текстов самого О. Сакса. Он не только приводит многочисленные метафоры из коммуникативного репертуара своих пациентов, но и делится собственными, описывая ситуацию тяжелого проприоцептивного дефицита, с которой столкнулся он сам в результате травмы ноги [Sacks, 2012a].
Обращает на себя внимание многократное использование музыкальной метафоры при описании проприоцептивных ощущений. Знакомство со специальной литературой позволяет выяснить, что Сакс не является создателем этой образности (первичным концептуали-затором) и лишь продолжает давнюю метафорическую традицию, сложившуюся в неврологии. О «тихой музыке тела» ( the silent music of the body ) писал еще У. Гарвей [Harvey, 1959]. Метафора «кинетические мелодии» была ключевой в текстах А.Р. Лурии, который использовал ее для описания неврологического базиса высоко автоматизированных моторных действий [Лурия, 1979]. Сакс развивает эту традицию, предлагая собственную метафору «оркестра мышц» ( my muscle-orchestra playin g) [Sacks, 2012a, p. 14]. Он же вводит понятие «музыкальности движения» ( musicality of motion ) [Sacks, 2012a, p. 119], а также описывает способность музыки запускать поврежденные болезнью моторные автоматизмы: I was musicked along [Sacks, 2012a, p. 13] (Музыка толкала меня вперед, букв.: Меня музицировало вперед). Мышечная «тишина» в этой системе метафорических координат становится свидетельством серьезной патологии.
Заметим, что аудиальные (звуковые) образы употребляются и при описании инте- роцептивных ощущений. Однако они подчиняются другой метафорической логике. Во-первых, нормой считается состояние «органической тишины»; любой звук – это сигнал физического неблагополучия. Во-вторых, для обозначения интероцептивных ощущений практически всегда используются лексические единицы, обозначающие единичные, разрозненные и качественно однородные звуки, не образующие протяженных и органичных последовательностей (thump – стучать, наносить тяжелые удары, shriek – визжать, scream – вопить, yell – орать, buzz – жужжать, roar – рычать и т. п.) (см.: [Нагорная, 2015]). Таким образом, мы можем говорить о концептуальном своеобразии звуковых метафор в языке проприоцепции. Это является дополнительным подтверждением того, что широкие трактовки проприоцепции в духе С. Ивасаки несостоятельны.
Своеобразием отличаются и метафоры «потери», «утраты» конечности, которые типичны для описания проприоцептивного дефицита. Ср.: I had lost my leg. Again and again I came back to these five words: words which expressed a central truth for me, however preposterous they might sound to anyone else. In some sense, then, I had lost my leg. It had vanished; it had gone; it had been cut off at the top [Sacks, 2012a, p. 53] (Я потерял ногу. Снова и снова я возвращался к этим трем словам: словам, которые выражали для меня истину, как бы нелепо они ни звучали для всех других. В некотором смысле я потерял ногу. Она исчезла; она пропала; ее отрезали у самого верха.) Их драматизм заключается в хорошо осознаваемой абсурдности самой идеи отсутствия конечности, в остром конфликте между схемой и образом тела, с одной стороны, и противоречием между внутренним ощущением и наблюдаемой реальностью, с другой. Примечательно, что в профессиональном дискурсе неврологов это ощущение метафорически именуется «внутренней ампутацией» [Sacks, 2012a, p. 53].
Высокая частотность таких метафор заставляет нас усомниться в правильности одного из основных постулатов телесных штудий, согласно которому «отсутствие» тела в сознании есть признак физического благополучия [Leder, 1990]. «Мы чувствуем себя хо- рошо, если мы не чувствуем своего тела» [Body Schema..., 2021, p. 13]. Мы вновь убеждаемся в том, что проприоцептивный опыт носит не вне-, а предрефлексивный характер, и его присутствие в сознании, пусть и в качестве слабо различимого фона, обязательно.
В текстах Сакса попытка обнаружить «потерянное» приводит к максимальной объективации утратившей чувствительность конечности, в результате чего появляется очень специфический вид концептуализации, который сам автор называет «метафорами ничтожности», или «небытия» ( metaphors of non-entity ) [Sacks, 2012a, p. 200]. Нога превращается в «ничто», «пустоту», «вещь», которая не имеет к нему никакого отношения: that thing , that featureless cylinder of chalk which served as my leg [Sacks, 2012a, p. 111] (та вещь, тот безликий цилиндр из мела, который служил мне ногой); a foreign, inconceivable thing [Sacks, 2012a, p. 53] (чуждая мне, непостижимая вещь), an unrelated “thing” [Sacks, 2012a, p. 196] (никак не связанная со мной «вещь»), a nothing which hung loosely from my hip [Sacks, 2012a, p. 110] (ничто, свободно свисающее с моего бедра), a nothingness, a void [Sacks, 2012a, p. 71] (ничто, пустота). Метафорический характер подобного рода номинаций Сакс подчеркивает использованием кавычек, которые оказываются особенно полезны в качестве метаязковых помет при введении в текст экстремальной формы этой метафоры – местоимения it : I still refer to my injured ankle as “it” and I don’t trust it yet [Sacks, 2012a, p. 186] (Я все еще называю свою поврежденную ногу «это» и по-прежнему ей не доверяю).
Подобные случаи мы можем квалифицировать как грамматическую метафору, когда формальная по своей сути единица нагружается глубоким смыслом. Этот смысл в данном случае двояк. С одной стороны, он заключается в неприятии конечности самим перцептором, отказе считать ее частью себя: It seemed to bear no relation whatever to me. It was absolutely not-me [Sacks, 2012a, p. 51] (Казалось, что она не имеет никакого отношения ко мне. Это был абсолютно не-я). С другой стороны, it передает значение чужеродности, инаковости, принадлежности другой, незнакомой человеку, реальности. Сакс при- водит весьма любопытный список определений, которые используют его пациенты для описания этого ощущения: “‘queer’, ‘wrong’, ‘strange’, ‘unreal’, ‘uncanny’, ‘detached’, and ‘cut off’ – and, again and again, the phrase ‘like nothing on earth’” [Sacks, 2012a, p. 132– 133] («“чудной”, “неправильный”, “странный”, “нереальный”, “жуткий”, “отделенный” и “отрезанный” – и, снова и снова, фраза “непохожий ни на что на свете”»). Эта отчужденность подчеркивается и неоднократным использованием дистантного указательного местоимения that – that thing [Sacks, 2012a, p. 111] (та – та вещь). Восстановление чувствительности в ноге Сакс также метафоризирует скорее грамматически, используя максимально обобщенный дескриптор thereness (присутствие, букв. «тамость»): It seemed radiant in its overwhelming and immediate thereness – that thereness now given, which no thinking could reach [Sacks, 2012a, p. 124] (Казалось, что она сияет в своем ошеломляющем и непосредственном присутствии – том присутствии, которое было теперь дано и до которого невозможно было дотянуться сознанием). Только такая метафора, по его мнению, может адекватно передать этот не похожий ни на что, онтологически уникальный опыт.
Разумеется, проприоцепция концептуализируется и с помощью других, куда более ярких метафор (см.: [Нагорная, 2023]). Однако именно такие семантически обобщенные, грамматические метафоры заслуживают особого внимания, поскольку они обеспечивают концептуальное своеобразие дискурса проприоцептивных ощущений.
Значимость грамматики подсказывает нам еще один возможный ракурс лингвистического исследования проприоцепции: анализ синтаксической структуры «проприоцептивных высказываний» с целью дополнительного подтверждения валидности тех теоретических выкладок относительно упомянутого выше чувства собственности по отношению к своему телу, которые мы встречаем в теоретических работах по философии и психологии. Перспективной представляется здесь идея Й. Атарии о разграничении трех уровней владения телом: (1) «не я и не мое» – полное отсутствие чувства собственности по отношению к телу (ср.: that thing is not moving – та вещь не двигается, как у Сакса); (2) «мое, но не я» – слабое чувство собственности (ср.: my leg / this leg of mine is not moving – моя нога / эта моя нога не двигается); и (3) «я» – ярко выраженное чувство собственности (ср: I am moving – я двигаюсь) [Ataria, 2018, p. 36]. Распознавание этих конструкций в речи человека и выявление паттернов в их употреблении может оказаться важным в клинической и психотерапевтической практике, поскольку выбор в пользу той или иной из них может свидетельствовать об улучшении либо ухудшении состояния пациента.
Что касается выбора материала для лингвистического исследования, то мы хотели бы отметить чрезвычайную ценность нарративов от первого лица, о которой писал еще У. Джеймс в 1887 г. [James, 2009]. В настоящее время этот нарративный формат представлен множеством вариантов: автобиографическая проза, в том числе автопатография; авторские блоги в интернете и специализированные форумы в соцсетях, в которых обсуждаются различные виды проприоцептивного дефицита либо, напротив, проприоцептивной избыточности как в случае с фантомными конечностями; видеоблоги и др.
Заключение
Важнейшим условием для дальнейшего развития лингвосенсорики является расширение исследовательских границ с целью максимально полного охвата всех видов ощущений и учета тех их номенклатур, которые сложились в естественных и гуманитарных науках. «Зоной ближайшего развития» лингво-сенсорики должно стать изучение проприоцепции как важнейшего ощущения, формирующего основу для всех видов телесного опыта и играющего ключевую роль в формировании человеческой идентичности. При создании лингвистической модели проприоцепции важно учитывать возможность передачи релевантных смыслов не только лексическими, но и синтаксическими средствами. Кроме того, при изучении языка проприоцепции необходимо каталогизировать не только перцептони-мы-универбы, но и метафоры, которые во многих отношениях являются более точным средством передачи перцептивных смыслов.
Лингвистическое исследование проприоцепции может оказаться полезным вкладом в изучение этого сложнейшего феномена в других науках. Оно позволит получить дополнительные данные, касающиеся феноменологии интеро- и проприоцепции, внести ясность в принципы их разграничения, уточнить объем соответствующих понятий, а также определить их значимость в структуре субъективного опыта человека.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Здесь и далее перевод наш.
Список литературы Язык "тайного ощущения": перспективы лингвистического исследования проприоцепции
- Дубровский Д. И., 2013. Субъективная реальность и мозг: опыт теоретического решения проблемы. Saarbrucken: Palmarium Academic Publishing. 284 p.
- Лурия А. Р., 1979. Язык и сознание / под ред. Е. Д. Хомской. М.: Изд-во Моск. ун-та. 320 с.
- Лурия А. Р., 1982. Этапы пройденного пути: науч. автобиография / под ред. Е. Д. Хомской. М.: Изд-во Моск. ун-та.184 с.
- Нагорная А. В., 2014. Дискурс невыразимого: Вербалика внутрителесных ощущений. М.: ЛЕНАНД. 320 с.
- Нагорная А. В., 2015. Образы зрительной и слуховой модальности в когнитивном пространстве интероцепции // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. № 3. С. 81–88.
- Нагорная А. В., 2017. Лингвосенсорика как перспективное направление современных лингвистических исследований. М.: ИНИОН РАН. 86 c.
- Нагорная А.В., 2023. Метафоры, которыми мы ощущаем // Нагорная А. В., Смирнова А. Г., Цыгунова М. М., Чермошенцева К. А. Метафорика субъективного опыта в современной англо-язычной культуре. М.: ЛЕНАНД. С. 34–102.
- Харченко В. К., 2012. Лингвосенсорика: Фундаментальные и прикладные аспекты. М.: ЛИБРО-КОМ. 216 с.
- Ataria Y., 2018. Body Ownership in Complex Posttraumatic Stress Disorder. N. Y.: Palgrave Macmillan. 200 p.
- Body Schema and Body Image: New Directions, 2021. / ed. by Y. Ataria, Sh. Tanaka, Sh. Gallagher. Oxford: Oxford University Press. 384 p.
- Cardini F.-E., 2008. Manner of Motion Saliency: An inquiry into Italian // Cognitive Linguistics. Vol. 19, iss. 4. P. 533–569.
- Charon R., 2006. Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford: Oxford University Press. 304 p.
- Clinical Management of Sensorimotor Speech Disorders, 1997 / ed. by A. McNeil, R. R. Malcom. N. Y.: Thieme. 448 p.
- Dainton B., 2008. The Experience of Time and Change // Philosophy Compass. Vol. 3, iss. 4. P. 619–638.
- Dellantonio S., Pastore L., 2012. Internal Perception: The Role of Body Information in Concepts and Word Mastery. Berlin: Springer. 382 p.
- Fogel A., 2009. The Psychophysiology of Self-Awareness: Rediscovering the Lost Art of Body Sense. N. Y. ; L.: W. W. Norton & Company. 416 p.
- Gallagher Sh., 2005. How the Body Shapes the Mind. N. Y.: Oxford University Press. 294 p.
- Gallagher Sh., 2019. Self-Defense: Deflecting Deflationary and Eliminativist Critiques Off the Sense of Ownership // Owning A Body + Moving a Body = Me. Lausanne: Frontiers. P. 7–16.
- Gibson J., 2013. The Ecological Approach to Visual Perception. N. Y. ; L.: Routledge. 346 p.
- Guillot M., 2017. I Me Mine: On a Confusion Concerning the Subjective Character of Experience // Review of Philosophy and Psychology. Vol. 8, iss. 1. P. 23–53.
- Harvey W., 1959. De Motu Locali Animalium (1627). Cambridge: Cambridge University Press. 163 p.
- Iwasaki Sh., 2002. Proprioceptive-State Expressions in Thai // Studies in Language. International J. Sponsored by the Foundation “Foundations of Language”. Amsterdam: John Benjamins e-platform. Vol. 26, iss. 1. P. 33–66.
- James W., 2009. The Consciousness of Lost Limbs (1887) // Proceedings of the American Society for Psychical Research. № 1. P. 249–258.
- Johnson M., 2007. The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding. Chicago: The Univ. of Chicago Press. 328 p.
- Kaya D., Yertutanol F. D. K., Calik M., 2018. Neurophysiology and Assessment of the Proprioception // Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation. Cham: Springer. P. 3–11.
- Langacker R.W., 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. I. Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press. 540 p.
- Leder D., 1990. The Absent Body. Chicago: The University of Chicago Press. 229 p.
- Lowen A., 1993. Depression and the Body: The Biological Basis of Faith and Reality. N. Y.: Penguin Books. 320 p.
- Mani I., Pustejovski J., 2012. Interpreting Motion: Grounded Representations for Spatial Language. N. Y.: Oxford University Press. 166 p.
- McLaren K., 2010. The Language of Emotions: What Your Feelings Are Trying to Tell You. Toronto: Sounds True, Inc. 432 p.
- Owning A Body + Moving a Body = Me, 2019 / ed. by L. Pia, F. Garbarini [et al.]. Lausanne: Frontiers. 122 p.
- Proske U., Gandevia S. C., 2012. The Proprioceptive Senses: Their Roles in Signaling Body Shape, Body Position and Movement, and Muscle Force // Physiological Review. № 92. P. 1651–1697.
- Sacks O., 2012a. A Leg to Stand On. L.: Picador. 206 p.
- Sacks O., 2012b. Awakenings. L.: Picador. 408 p.
- Sacks O., 2022. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. L.: Picador. 257 p.
- Santuz Z., Zampieri N., 2024. Making Sense of Proprioception // Trends in Genetics. Vol. 40, № 1. P. 20–23. DOI: 10.1016/j.tig.2023.10.006
- Saulton A., 2017. Understanding the Nature of the Body Model Underlying Position Sense: diss. Moutiers-au-Perche. 99 p.
- Sherrington Ch., 1906. The Integrative Action of the Nervous System. Liverpool ; N. Y.: Charles Scribner’s Sons. 412 p.
- Steen G. J., 2015. Developing, Testing and Interpreting Deliberate Metaphor Theory // Journal of Pragmatics. Vol. 90. P. 67–72.
- Talmy L., 2000. Toward a Cognitive Semantics. Cambridge ; L.: The MIT Press. Vol. 2. Typology and Process in Concept Structuring. 569 p.
- The Body and the Self, 1998 / ed. by J. L. Bermúdez, N. Eilan, A. Marcel. Denver: Bradford Books. 384 p.