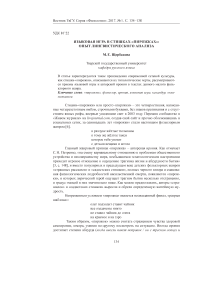Языковая игра в стишках-"пирожках": опыт лингвистического анализа
Автор: Щербакова Марина Евгеньевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье характеризуются такие произведения современной сетевой культуры, как стишки-«пирожки», описываются их типологические черты, рассматриваются приемы языковой игры и авторской иронии в текстах данного малого фольклорного жанра.
"пирожки", фольклор, ирония, языковая игра, каламбур, окказионализм
Короткий адрес: https://sciup.org/146121971
IDR: 146121971 | УДК: 81’22
Текст научной статьи Языковая игра в стишках-"пирожках": опыт лингвистического анализа
Стишки-«пирожки» или просто «пирожки» – это четверостишия, написанные четырехстопным ямбом, строчными буквами, без знаков препинания и с отсутствием явных рифм, впервые увидевшие свет в 2003 году. Пережив сообщество в «Живом журнале» на livejournal.com , создав свой сайт и прочно обосновавшись в социальных сетях, за одиннадцать лет «пирожки» стали настоящим фольклорным жанром [6].
к разлуке жёлтые тюльпаны к тому же жёлтое такси которое тебя увозит с детьми вещами и котом
Главный жанровый признак «пирожка» – авторская ирония. Как отмечает С. Н. Петренко, «на смену карнавальному отношению к проблемам общественного устройства и несовершенству мира, несбывшимся эсхатологическим настроениям приходит игровое отношение к ощущению трагизма жизни и абсурдности бытия» [3, с. 148], и вместо популярных в предыдущем веке детских фольклорных жанров «страшных рассказов» и «садистских стишков», полных черного юмора и смакования физиологических подробностей насильственной смерти, появляются «пирожки», в которых лирический герой ощущает трагизм бытия несколько отстраненно, и градус эмоций в них значительно ниже. Как можно предположить, авторы «страшилок» и «садистских стишков» выросли и обрели определенную житейскую мудрость.
Непременным условием «пирожка» является неожиданный финал, «разрыв шаблона»:
олег подходит ставит чайник все озадачены никто не ставил чайник до олега на красное и на зэро
Таким образом, «пирожок» можно считать отражением чувства здоровой самоиронии, юмора, умения по-другому посмотреть на ситуацию. Иногда ирония достигает степени абсурда (когда внесли пакет поправок / он с треском лопнул и теперь / поправки ползают по дому / пищат и гадят на ковры) или рождает парадокс (евгений долго чистил зубы / примерно час и лишь когда / как перламутыр заблестели / в стакан с водой их опустил). Но «пирожок» необязательно должен быть смешным. Есть целая серия грустных, даже печальных стихотворений:
за спиной тащу я ранец с букварём вот и всё накрылось лето сентябрём
Многообразие «пирожкового» мира поражает своим глубинным смыслом, особым отношением к жизни и творчеству.
Среди текстов этого юмористического жанра немало примеров, когда ожидание читателя формируют строчки из популярных текстов. Это могут быть хрестоматийные стихотворные произведения, по преимуществу входящие в школьную программу по литературе, или тексты известных песен, или цитаты персонажей кино- или мультфильмов:
выйду ночью в поле я вдвоём с конём так как не умею ездить я на нём.
Здесь содержится явная аллюзия к известной песне группы «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем», а комический эффект рождает неожиданная мотивация действия, заявленного в начале текста.
«Пирожки», видимо, не случайно пишутся очень распространенным в русской поэзии размером – четырехстопным ямбом (с чередованием слогов 9-8-9-8), достаточно вспомнить, к примеру, онегинскую строфу. Поскольку авторы рассматриваемых четверостиший – творцы поэзии, так сказать, из народа и представление о русском стихосложении имеют в основном из хрестоматийных источников, стихотворный размер данного жанра фольклора вполне предсказуем.
Особые разновидности «пирожков» – «порошки» и «депресяшки». Первые ( все сочинения о счастье / сводились в школе к одному / чтоб миру мир и не тонула / муму ) пишутся тем же четырехстопным ямбом, но с усеченной последней (9-89-2) и рифмованными второй и четвертой строками, а последние ( я полгода ела / мерзких овощей / зеркало скажи мне / я ли всех тощей ) – трехстопным хореем и поразительно напоминают классические детские стихи, с одной стороны, а с другой – знаменитые «садистские стишки». Само название «депресяшки» намекает, что эта разновидность «пирожковых» текстов по настроению преимущественно «минорная». В последнее время появился усеченный вариант исходного «пирожка» – двухстрочный ( меня отговорила роща / писать стихи сказал поэт ).
Следует подчеркнуть еще одну типичную особенность «пирожков» как фольклорного жанра. Данные стихотворные произведения могут включать откровенные натуралистические подробности, юмор «ниже пояса» и острую сексуальную направленность, в текстах «пирожков» встречается ненормативная и вульгарно-просторечная лексика. Перечисленные свойства сближают «пирожки» с таким популярным в XX веке малым жанром фольклора, как частушка.
Охарактеризуем некоторые языковые особенности, общие для всех произведений рассматриваемого жанра. Поскольку таких особенностей много, назовем лишь наиболее яркие.
Одним из наиболее формальных способов воздействия на читателя является искажение привычного орфографического облика слова, намеренно приближающегося к фонетическому, причем такому, который характерен для разговорной речи или даже просторечия ( на школьный праздник марьиванна / в костюме берии пришла / и кто не сдал ещё на шторы /тот сам на шторы и пошёл ). В других случаях орфографический облик слов может приобретать утрированно «безграмотный» вид ( на пытках ведьма так держалась / что подтвердили палачи / квалификацыю на первый / а я на мастерский разряд ; пришол малевич айвазовский / квадратный вал нарисовал ). Можно предположить, что авторы текстов с подобными нарочитыми орфографическими неправильностями пытаются таким образом подчеркнуть как бы «народность» своих текстов, намекнуть на их принадлежность фольклору и, конечно, усилить их юмористическое, ироническое звучание.
Частотный способ реализации авторской иронии в текстах «пирожков» – каламбур. В. С. Виноградов отмечает: «Известно, что каламбуры <…> создаются благодаря смелому использованию с целью достижения комического эффекта различных созвучий, полных и частичных омонимов, паронимов и таких языковых феноменов, как полисемия и изменение устойчивых лексических оборотов» [2, с. 152]. Следовательно, игра – неотъемлемая, необходимая составляющая каламбура, а каламбур – одно из ярчайших проявлений языковой игры.
А. А. Терещенкова приводит классификацию способов каламбурообразо-вания: каламбур, построенный на совмещении значений полисемического слова; каламбур, в основе которого лежит столкновение значений синонимов; каламбур, построенный на столкновении антонимов; каламбур, базирующийся на столкновении омонимов; каламбур, базой которого становится столкновение паронимов; каламбур, основанный на обыгрывании фразеологических единиц; каламбур, в основе которого обыгрывание собственных имен; каламбур, базирующийся на создании комических окказиональных слов; каламбур, в котором используются комические потенции хиазма [5, с. 87].
Каламбуры разнообразно и широко представлены в текстах рассматриваемого жанра. Например, в двустишии меня отговорила роща / писать стихи сказал поэт обыгрываются два значения глагола отговорить – «перестать говорить», к которому читателя отсылает скрытая цитата из знаменитого стихотворения С. Есенина «Отговорила роща золотая…», и «убедить не делать что-то». Подобных «пирожков», обыгрывающих полисемантичность слов, довольно много, например:
а что наркоз у вас не местный опять наверно привозной спросила бабка у хирурга и камнем рухнула на стол
***
аркадий распустил парламент случайно нитку потянув
В некоторых текстах встречаются примеры языковой игры на основе взаимодействия в контексте омонимов:
что счастье есть я раньше думал потом я понял счастье пить.
В сочетании счастье есть выступает глагол быть в 3-м лице ед. числа, однако в конце двустишия благодаря появлению в контексте глагола пить у первого глагола актуализируется значение «употреблять пищу».
Весьма интересен «пирожок» я непутевый орнитолог / и наломал немало дроф , в котором сталкиваются значения омофонов дров и дроф . Комический эффект возникает за счет того, что определение непутевый и отсылка к известному фразеологизму с глаголом наломать предполагают форму род. падежа дров , но оказывается, что в конце двустишия возникает «птичий» контекст, рождаемый употреблением омофона и подкрепленный сущ. орнитолог в начале текста.
Наличествуют в нашем материале и тексты, строящиеся на языковой игре с участием имен собственных: тут вдруг из маминой из спальни / выходит мамин сибиряк . Здесь дважды употребляется притяжательное прил. мамин(а) , однако во второй строке мамин неожиданно оказывается первой частью фамилии русского писателя. Другой пример:
я наберу корней чуковских и заварю вам детский чай.
Начало первой строки выстраивает читательское ожидание на употребление нарицательного корни в род. п. мн. числа, но дальнейшая форма чуковских заставляет переосмыслить текст, и прилагательное детский закрепляет аллюзии к знаменитому автору «Мойдодыра». Впрочем, в конце текста читателя снова возвращают к первой ассоциации: корней – заварю – чай .
По частоте после каламбура в текстах «пирожков» – окказионализмы как средство языковой игры. Цель – добиться комического эффекта (в рамках этой задачи окказионализмы рассматривает, в частности, В. З. Санников [4]). Больше всего в «пирожках» лексических окказионализмов, которые «создаются в большинстве случаев комбинацией различных узуальных основ и аффиксов в соответствии со словообразовательной нормой или в некотором противоречии с ней» [1, с. 42]: Например, в тексте ваш диссонанс не когнитивен брезгливо взвизгнул дирижер добавьте ноту интеллекта в терцквартквинтсекстсекундаккорд.
Лексический окказионализм терцквартквинтсекстсекундаккорд является контаминацией трех музыкальных терминов ( терцквартаккорд, квинтсекстак-корд, секундаккорд ) и образуется способом сложения корней. Данный длинный окказиональный термин создает комический эффект, поддерживаемый каламбуром диссонанс не когнитивен , где языковая игра базируется на значениях сущ. диссонанс : первое значение – «негармоничное сочетание музыкальных звуков», второе, обусловленное определением когнитивный , – «то, что вносит разлад во что-нибудь, вступает в полное противоречие с чем-нибудь».
Рассмотренные особенности – далеко не полный набор характерных языковых приемов, используемых в стишках-«пирожках». Эти произведения современной сетевой культуры обладают обширным рядом самобытных особенностей и, как нам представляется, заслуживают дальнейшего изучения как феномен массового поэтического творчества наших дней.
Tver State University the Department of Russian Language
Список литературы Языковая игра в стишках-"пирожках": опыт лингвистического анализа
- Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ: учеб. пособие/Калинингр. ун-т. Калининград, 1997. 68 с.
- Виноградов В. С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. 174 с.
- Петренко С. Н. Жанровые традиции постфольклора в поэтике современной русской литературы//Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. 2014. № 2 (87). С. 145-149.
- Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 2002. 552 с.
- Терещенкова А. А. Лингвосемиотическая природа каламбура//Стилистический анализ художественного текста. Смоленск: Смоленский гос. ун-т, 1988. С. 87-100.
- Щербакова П. «Пирожок» -это поэзия современности //Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/culture/2014/09/18/a_6220969.shtml. (Дата обращения: 20.01.2017.)