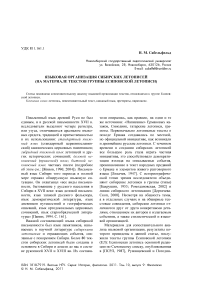Языковая организация сибирских летописей (на материале текстов группы Есиповской летописи)
Автор: Сабельфельд Наталья Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сопоставительному анализу языковой организации текстов, относящихся к группе Есиповской летописи.
Летопись, повествовательный текст, книжный язык, претериты, паратаксис
Короткий адрес: https://sciup.org/14737984
IDR: 14737984 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Языковая организация сибирских летописей (на материале текстов группы Есиповской летописи)
Авторская художественно-публицистическая концепция обусловила высокую стилистическую окрашенность и эмоциональность повествования ЕЛ. Это проявилось в функционировании форм настоящего времени в плане «настоящего исторического», подборе описательных оборотов речи, использовании абстрактной лексики, отстраненности от конкретных деталей – с одной стороны, а с другой – в «многоглагольно-сти», стремлении к подробному, неспешно- му изложению событий, реализуемому в рядах однородных сказуемых и т. д. Однако С. Есипов проявил себя как опытный книжник и стилист, употребляя архаичные или церковнославянские элементы в тексте, он избежал случаев стилистической неуместности, несовместимости старой формы с внутренним содержанием или с фонетическим обликом слова, смешений разнородных элементов разных регистров. Так, используя фрагменты Хронографа, С. Есипов устранил книжные излишества более позднего времени и весьма умеренно применил «плетение словес» даже в самых высоких риторических моментах летописи. Цитаты из деловых документов, отражающих иной языковой регистр (деловой), например из Шертной грамоты, он также обработал в едином стилистическом ключе. Вследствие этой работы повествование приобрело черты гибридного книжного узуса, который характеризовался такими устойчивыми признаками, как архаичная система склонения, сохранение в повествовании простых претеритов, предикативное употребление кратких действительных причастий, инфинитив на -ти, использование оборота «дательный самостоятельный» и пр. В тексте ЕЛ нашли отражение и общерусские элементы: это и новые падежные формы, и редкие л-формы, проникающие в текст под влиянием деловых документов, и фонетические процессы живой речи, а также новая лексика и постепенно формирующийся новый строй предложения.
Однако, несмотря на опытность в книжном деле, автор ЕЛ не избежал грамматических ошибок, нередко путая формы числа аориста и постоянно ошибаясь в формах имперфекта. Как известно, к XVII в. претериты давно вышли из живого употребления. Пассивно же, из древних текстов освоить грамматическую семантику такой формы, как имперфект, не путать его с аористом и действительными причастиями (особенно на фоне активно развивающего противопоставления видов) было достаточно сложно.
Румянцевский летописец
Румянцевский летописец (РЛ) - это, в большей степени, историческое повествование, составленное как лаконичный отчет о сибирских событиях, чем собственно летопись. Существует мнение [Ромодановская,
2002], что текст создавался в Москве для Посольского приказа (см. вставки в текст о казанских татарах и о преставлении царя Ивана Васильевича). Стремясь быть объективным, автор летописца сообщил и о разбойном прошлом Ермака и его дружины, и о возможном участии Строгановых в снаряжении похода в Сибирь, в то время как С. Есипов об этом умолчал. В отличие от С. Есипова, автор РЛ отстраняется от излагаемых событий, сохраняет нейтральность, сдержанность в повествовании. Его краткий рассказ лишен описательных оборотов, контекстов с прямой речью, абстрактных, расплывчатых формулировок, экспрессивного употребления грамматических форм, усиливающих общую эмоциональность повествования (например, «настоящего исторического», «дательного самостоятельного» и т. п.). Поскольку свою задачу автор видел в передаче максимума информации при экономном наборе языковых средств, он избегал многословия, элиминируя ряды однородных сказуемых, используя для информационного «сгущения» новую для языка XVII в. глагольную форму - деепричастие, а также дейксис.
Этот высокообразованный книжник и мастер своего дела, легко ориентируясь в архаичных формах склонения и спряжения, почти не ошибается в формах аориста и имперфекта. Если сравнить соответствующие фрагменты ЕЛ и РЛ, то можно предположить, что автор РЛ исправлял грамматические ошибки в согласовании по числу в формах аориста, допущенные в исходном тексте. Например: «В то же время князцы остяцъкие своими людми отъиде (ед.ч. вм. мн.) кождо восвояси» (ЕЛ). - « Княжцы же остяцкия своими людми отидоша кождо восвояси » (РЛ); « По сем же думный его Ка-рача... отъиде от царя Кучюма и не восхо-теша (мн. ч. вм. ед.) быти в повиновении пред ним » (ЕЛ). - « Потом же и Карача от него уеха, не восхоте быти у него в повиновении » (РЛ); « и убояшася (мн. ч. вм. ед.) воевода , не приста ко брегу » (ЕЛ) - « и убояся , не приста ко брегу » (РЛ) и т. п.
При общей ориентации на книжные образцы автор РЛ исподволь обновляет языковые средства: вместо двувидовых глаголов использует глаголы с четким видовым противопоставлением, упрощает синтаксические конструкции: место паратактических высказываний с цепочечным нанизыванием предикативных единиц в тексте занимают централизованные конструкции с четко выраженным ядром и зависимыми второстепенными элементами. В результате такой работы текст РЛ становится приближенным к современному восприятию и почти не требует перевода или специального толкования.
Таким образом, языковую организацию текстов ЕЛ и РЛ можно охарактеризовать в рамках следующих оппозиций: авторская включенность в повествование – авторская отстраненность; эмоциональность – нейтральность повествования; пространность – лаконизм изложения; архаизация – обновление языка; преобладание синтаксиса соположения частей (паратаксис) – преобладание синтаксиса логического развертывания информации (гипотаксис). Первый признак каждой пары относится к ЕЛ, противоположный – к РЛ.
Погодинский летописец
Погодинский летописец (ПЛ) – это особая редакция ЕЛ, составленная дьяком Посольского приказа и отражающая официальную точку зрения на события сибирского похода. Летописец сохранился в единственном списке в составе рукописного сборника и датируется серединой XVII в. [Летописи сибирские, 1991]. В тексте ПЛ использован рассказ очевидца, участника похода, возможно, казака Черкаса Александрова. Подробное обозначение географического положения городков, рек, многочисленные уточнения места действия, времени и указания путей переходов дружины Ермака по Сибири позволили Е. К. Ромодановской [2002] высказать предположение о том, что автор сам был участником этого похода, следовательно, индивидуальные известия ПЛ являются точными и документальными. Однако обилие индивидуальных известий ПЛ своеобразно сочетается в нем с дословным сходством ряда глав с текстами ЕЛ. Например: « О княжении сибирских царей и князей », « О царе Кучуме », « О пришествии Сейдяка », « О взятии городов и улусов » и пр.
В языке основной части повествования, близкой ЕЛ, достаточно полно представлены элементы книжной языковой стихии, идущей от текста-источника: повествование ведется в формах аориста, используются архаичные формы именного склонения, книжные формы действительных причастий, оборот «дательный самостоятельный». Но, возможно, автор ПЛ не имел достаточного опыта в книжном деле, поскольку последовательно выдержать книжный строй изложения ему не удалось. Кроме ошибок, вызванных ослаблением внимания или неточным пониманием грамматического значения форм, встречаются и стилистическая неоднородность, необработанность текста. Там, где автор старательно переписывал письменные источники, языковая система устойчиво книжно-архаичная. Когда он перерабатывал устные источники или делал собственные добавления, в текст включались формы разговорной речи: плывучи, гу-ляючи, иттить, мяхкие рухлядь, позать (‘позади’), бутто на помочь и пр.; отражалось живое произношение: на нис, опчея, з бойством, сь его, хто, хде, оманом, вое-водцкой. Механическое смешение элементов различных регистров приводило к образованию стилистически не оправданных форм и оборотов, например: «Казацы же на берег выскакаша, мужески и храбро на них наступиша»; «Царь же Чингис отпусти его и рече: Хде хощешь, тут пребываеши». Таким образом, язык вставок и уточнений отражает систему делового регистра, открытого для проникновения явлений живой речи. Эти части текста характеризуются не только активным использованием л-формы и инфинитива на -ть, но и общерусскими тенденциями в системе именного и местоименного склонения.
В синтаксической организации ярко проявляется паратаксис, характерный для разговорной речи: нанизывание предикативных единиц по способу сочинения, при этом в роли соединительного и начинательного союза, наряду с союзом и , часто употребляются союзы а и да , что также характерно для языка деловой письменности [Коротаева, 1964]. Подчинительные отношения нередко оформляются в рамках соединительных конструкций: « И как Иван Киреев с царевичем Маметкулом пришел к Москве 92 году, и в то время … царя Ивана Васильевича не стало »; « и многие Ермаковы казаки и которые с Руси люди пришли, померли в городе з голоду » и т. п.
В отличие от ЕЛ в тексте ПЛ заметно меньше нравоучений, риторики и цитат из Писания, на первый взгляд кажется, что в обработке исходного текста проявилось авторское стремление к демократизации стиля изложения [Панин, 1994. С. 162]. Однако в ПЛ достаточно контекстов с попытками «плетения словес», витиеватыми выражениями, связанными, очевидно, с авторскими представлениями о «книжности». Ср. соотносительные фрагменты: «…прослави Бога..., яко яви ему государю таковую превеликую богатую милость» (ПЛ). -«…прослави Бога…, яко явит такову свою милость» (ЕЛ); «Боже, помози нам, рабом своим, и прослави свое великолепное имя святое, где было безбожие!» (ПЛ) -«Боже, помози нам, рабом своим» (ЕЛ) и т. п.
В ПЛ повествование ведется дискретно, прерывисто. Текстовые «швы», возникшие в результате механических вставок или упрощения исходного текста, хорошо заметны, поскольку нарушают связность рассказа, а порой и общую логику. Приведем несколько соотносительных фрагментов из ЕЛ и ПЛ, которые демонстрируют «ошибочные» чтения и текстовые швы.
-
(1) «Сия бо Сибирьская страна полуно-щие отстоит же от Росии царствующаго града Москвы многое разстояние, яко до двою тысяч поприщ суть . Сих же царств Росийскаго и Сибирьские земли облежит Камень превысочайший зело» (ЕЛ). – «Сия убо Сибирская страна полунощие отстоит же от Росийского государства, от царст-вующаго града Москвы многое растояние, яко до двою тысящ и трех сот верст до перваго сибирскаго града Верхотурья, а ходу зимним путем з болшими возы семь недель. А стоит город Верхотурье на реке на Туре, на левой стороне. Суть же промежь Московскаго государства и Сибирьские земли облежит Камень превысочайши» (ПЛ). Как видим, во фрагменте ПЛ исходный текст разрывается топографическими уточнениями перед словоформой суть , которая затем оказывается включенной в предикативную единицу, имеющую собственный предикат облежит , и образует вместе с ним «фантастическую» форму сказуемого – суть… облежит.
-
(2) «Сии же злоратные мужие… дыхаю-ще гневом и яростию, одеяни же железом и меднощитницы и копиеносцы и железост-релцы » (ЕЛ). – «…Погании же пустиша тмочислении стрелы, а сами одеяни же железом и меднощитницы » (ПЛ). В основе
обоих фрагментов лежит описание битвы греков с болгарами, приведенное в Хронографе: « Вси железом одеяни, меднощитни-цы и копиеносцы и железострельници » (цит. по: [Ромодановская, 2002. С. 218]). С. Есипов сохранил общую стилистику и смысл: ‘одеты железом (латами) и меднощитники, и копьеносцы, и железострельцы’, т. е. все вооруженные воины. Составитель ПЛ, очевидно, не ясно понял смысл отдельных слов и сократил исходный текст неудачно, в результате чего читается: ‘сами же одеты латами и меднощитницами (медными щитами)’ (см. перевод в: [Летописи сибирские, 1991. С. 73]). Существительное меднощит-ницы , обозначающее ‘род вооруженных воинов’ (в исходном тексте это форма именительного падежа мн.ч.), оказалось в сочинительном ряду со словом железом как форма творительного падежа мн. ч. и получило значение ‘род защитной одежды, медные щиты’. Как видим, здесь пример того, как слово со стершимся для носителя языка значением в окружении других слов обновляет свою семантику под влиянием грамматического значения, навязанного ему «испорченным» контекстом.
-
(3) «…писаша… что царство Сибирьское взяша и царя Кучюма и с вои его победиша, под его царскую высокую руку привели многих живущих тамо иноземъцов, тотар и остяков и вогуличь и прочая языцы. И к шерсти по их вере привели многих …» (ЕЛ). – «И писали… что… царьство Сибирское взяша и многих живущих ту иноязычных людей под его государеву царьскую высокую руку подвели , и к шерти их привели , а сибирскаго царя Кучюма и с его детми с Алеем да са Алтынаем, да с Ышимом и сь его вои победиша, и брата царя Кучюмова Маметкула розбиша же . А иноязычных многих людей : татар, и остяков, и вагуличь привели к шерти по их верам …» (ПЛ). Соотносительные фрагменты демонстрируют пример обработки Шертной грамоты, содержание которой почти полностью отразилось и в ЕЛ, и в ПЛ. Но если в ЕЛ читается связный текст с языковыми элементами делового письменного регистра, скорректированного С. Есиповым и гладко сочетающегося с книжными элементами, то фрагмент ПЛ предстает необработанным: чтобы восстановить нарушенную вставкой (о детях Кучума) связность повествования, соста-
- витель ПЛ вынужден прибегнуть к повторам.
В тексте ПЛ можно отметить и другие случаи нарушения логики повествования (примеры ошибок, связанных с механическим изменением исходного текста, см. также в статье: [Панин, 1994. С. 162–163]).
Сопоставительный анализ языковой организации текстов позволяет сделать следующее заключение.
ЕЛ – это оригинальный памятник с четкими приметами авторской литературной работы. С. Есипов составлял свою летопись в рамках гибридного книжного узуса, сохраняя в арсенале языковых элементов архаичные и традиционно книжные и умело сочетая их с незначительными вкраплениями элементов из делового регистра.
РЛ – лаконичное повествование, стилистически нейтральное, выдержанное в рамках обновленного гибридного книжного узуса, в котором использовались наиболее нейтральные архаичные и церковнославянские элементы, но нашли отражение также и общерусские языковые тенденции.
ПЛ – это многослойный, гетерогенный текст, сохранивший следы переработки протографа. Связное повествование нарушено разного рода документальными уточнениями, механически вставленными в исходный текст. Автор ПЛ (в отличие от авторов ЕЛ и РЛ) не стремился к созданию стилистически однородного повествования в рамках гибридного книжного узуса, для него традиция летописания была нарушена, что и обусловило широкое использование элементов деловой письменности и живой речи.