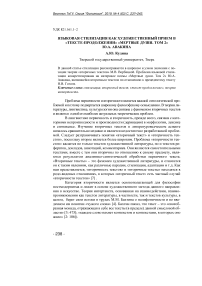Языковая стилизация как художественный прием в "тексте-продолжении" "Мертвые души. Том 2" Ю.А. Авакяна
Автор: Кудина Анастасия Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье стилизация рассматривается в широком и узком значении с позиции теории «вторичных текстов» М.В. Вербицкой. Проблема языковой стилизации конкретизирована на материале поэмы «Мертвые души. Том 2» Ю.А. Авакяна, являющейся вторичным текстом по отношению к прецедентому тексту Н.В. Гоголя.
Стилизация, вторичный текст, "текст-продолжение", теория интертекста
Короткий адрес: https://sciup.org/146281533
IDR: 146281533 | УДК: 821.161.1-2
Текст научной статьи Языковая стилизация как художественный прием в "тексте-продолжении" "Мертвые души. Том 2" Ю.А. Авакяна
Проблема первичности и вторичности является важной онтологической проблемой и поэтому подвергается широкому философскому осмыслению. В теории литературы, лингвистике, культурологии она связана с феноменом вторичных текстов и является одной из наиболее актуальных теоретических проблем.
В лингвистике первичность и вторичность, прежде всего, связана с категориями непроизводности и производности (деривации) в морфологии, лексике и синтаксисе. Изучение вторичных текстов в литературоведческом аспекте началось сравнительно недавно и является недостаточно разработанной проблемой. Следует разграничивать понятия «вторичный текст» и «вторичность текстов», поскольку второе является более широким. Проблема «вторичности текстов» касается не только текстов художественной литературы, но и текстов рефератов, докладов, аннотаций, комментариев. Они являются самостоятельными текстами, вместе с тем они вторичны по отношению к своему предмету, являются результатом аналитико-синтетической обработки первичного текста. «Вторичные тексты» - это феномен художественной литературы, и относится он к таким явлениям, как различные пародии, стилизации, адаптации и т.д. Как нам представляется, «вторичность текстов» и «вторичные тексты» находятся в родо-видовых отношениях, в которых «вторичный текст» есть частный случай «вторичности текстов» [7] .
Категория вторичности является основополагающей для философии постмодернизма и лежит в основе художественного метода данного направления в искусстве. Теория интертекста, основанная на взаимодействии, взаимопроникновении как текстов литературы, в частности, так и текстов культуры, в целом, берет свои истоки в трудах М.М. Бахтина о полифоничности и во введенном им понятии «чужого слова» [4]. Бахтин писал, что текст - это «своеобразная монада, отражающая в себе все тексты (в пределе) данной смысловой области» [3: 475]; «каждое слово пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило» [2: 106]).
Термин вторичный текст в отечественной лингвистике и литературоведении впервые появился в 1983 г. благодаря М.В. Вербицкой, также опиравшейся на работы М.М. Бахтина. Её докторская диссертация посвящена теории вторичных текстов [5]. Вербицкая в своей работе выделяет такие относительно несамостоятельные тексты, как пародия, стилизация, перифраз и т.п., именно подобные тексты она относит к вторичным текстам, противопоставляя им тексты, обладающие оригинальностью, своеобразием, в которых присутствует индивидуальная авторская манера. По Вербицкой, вторичный текст - это «произведение стилистически вторичное, воспроизводящее важнейшие особенности стиля протослова, которые и придают этому последнему художественное свое-образие»[Там же: 197].
По мнению Вербицкой, подобные тексты наследуют стилистические, жанровые, структурные черты предшествующего текста и направлены на передачу этих черт. Но, помимо интенции передачи данных черт претекста, вторичные тексты содержат также оценку данного текста и его авторскую интерпретацию. Полноценное понимание вторичного текста, по мнению исследователя, невозможно без знания предшествующего текста. Вербицкая выделяет пять параметров, на основе которых она различает «вторичные тексты»: предмет, объект изображения, на который направлена авторская идейно-эмоциональная оценка; характер этой идейно-эмоциональной оценки; отношение к используемой образно-стилистической системе, к протослову; творческий замысел автора вторичного текста, причины использования «чужого стиля»; просодия [там же].
Говоря о стилизации, Вербицкая приводит высказывание Ю.М. Тынянова о том, что стилизация и пародия близки, и та, и другая «ведут двойную жизнь», но отличие заключается в том, что в пародии обязательна «невязка обоих планов, смещение их». В стилизации, напротив, должно присутствовать соответствие двух планов, «стилизующего и сквозящего в нем стилизуемого» [там же: 29].
Вербицкая указывает на многозначность термина стилизация . Исследователь отмечает, что есть более широкое значение данного явления как родового понятия. Стилизация рассматривается как «воспроизведение существенных черт стиля писателя, литературного течения, разговорного стиля какой-либо этнографической группы и т.д.». В качестве родового понятия стилизация понимается как прием, «художественное средство, когда существенные черты стиля, взятого за образец («прототипного»), в основном сохраняются» [5: 30]. В более узком смысле стилизацией называется особое произведение, построенное на серьезном, уважительном воспроизведении чужого стиля [там же: 29].
Стилизация как художественный прием, особая техника может присутствовать во многих видах вторичных тестов, в том числе и в пародии, и в перифразе, и в др. Использование данного приема будет иметь различные цели, а также будут отличаться объект художественного освоения и предмет изображения.
Имея в виду многообразие вторичных текстов, художественных приемов и техник их написания, Вербицкая приходит к выводу о том, что стилизация как особый вид вторичного теста встречается крайне редко, но как художественный прием присутствует во многих видах вторичных текстов: «собственно стилизациями следует считать только те произведения, которые ориентированы на воспроизведение «чужого стиля» как основного предмета изображения; произведения, предметом художественного освоения которых является объективная реальность, таковым считать нельзя, даже если они носят имитационный характер» [там же: 90].
Говоря о вторичных текстах, Вербицкая называет конкретные их виды, среди которых, однако, отсутствует «текст-продолжение». Исследователь Ю.В. Флягина рассматривает «продолжение» как «законченное литературное произведение, имеющие все формальные признаки своего жанра, которое создается писателем как вторая (третья и т.д.) часть оригинального произведения другого писателя с использованием действующих лиц оригинального произведения, места и времени действия и с учетом всего опыта этих действующих лиц, то есть всех обстоятельств и событий оригинала и их последствий для персонажа. Таким образом, продолжение является лишь разновидностью того, что в западной традиции получило название “sequel”» [9: 56].
Определение, данное Флягиной, на наш взгляд, является не совсем точным, поскольку проанализированные нами «тексты-продолжения» не всегда заимствуют жанр оригинального произведения. «Текст-продолжение» – это вторичный текст, являющийся продолжением исходного текста, который стал прецедентным для культуры в целом и известным большинству ее носителей. Важной особенностью «текста-продолжения» является смена автора.
«Мертвые души. Том 2» Ю.А. Авакяна является продолжением поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», причем продолжением, воссозданным на основе оригинальных глав и их фрагментов утерянного второго тома поэмы. Авакян подчеркивает, что текст, написанный им в 1994 году, неразрывно связан с оригинальным, указывает в качестве соавтора Н.В. Гоголя и выносит его имя в заглавие своего произведения: «Мертвые души. Том второй, написанный Николаем Васильевичем Гоголем, им же сожженный, вновь воссозданный Юрием Арамовичем Авакяном и включающий полный текст глав, счастливо избежавших пламени». Авакян создает новый текст таким образом, что границы между оригинальным текстом Гоголя и новым текстом становятся практически незаметны: включение первых четырех глав и дописывание утраченных в них фрагментов происходит достаточно органично, без нарушения повествовательной линии Н.В. Гоголя.
Если обратиться к данному «тексту–продолжению» с позиций теории М.В. Вербицкой, то в качестве основного приема, лежащего в основе текста Ю.А. Авакяна, можно назвать стилизацию, понимаемую в широком смысле как воспроизведение существенных черт стиля прецедентного текста, то есть поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Вербицкая, вслед за Т.Г. Винокуром, отмечает, что «речевые характеристики персонажей, строящиеся на воспроизведении живой разговорной речи в художественном тексте, представляют собой один из видов языковой стилизации» [5: 185].
Исследователь Т.К. Абдуллаева выделяет следующие лингвистические особенности индивидуального стиля автора, которые в полной мере можно отнести и к речевым характеристикам персонажей:
-
1. Использование семантических архаизмов современного русского литературного языка для создания историко–страноведческого дискурса поэмы, которые представляют собой репрезентативный материал для интерпретации семантической эволюции слов ( комиссия, обыватель, съезд) ;
-
2. Употребление историзмов, обозначающих реалии 19 в.;
-
3. Пейоративные прозвища для характеристики героя с негативной стороны;
-
4. Дифференциация социальноролевого статуса героев с помощью этикетных слов ты, Вы ;
-
5. Метафоры и сравнения, повышающие уровень экспрессивности и эмоциональности образной номинации героев;
-
6. Гиперболизированные сравнения и повторы;
-
7. Наличие внутренних реплик героев, способствующих колоризации образов [1: 5].
В «тексте–продолжении» речевые характеристики персонажей строятся не на воспроизведении живой разговорной речи, а на имитации речевых характеристик персонажей прецедентного текста.
Так, например, Авакян использует семантические архаизмы, на которые указывает Абдуллаева: «Те же старые домишки, полусгнившие крыши, поросшие мхом, травой и даже кустарником, мелочные лавчонки, где продавался чай, дёготь, сахар, хомуты, и редкие прохожие на улицах, с интересом провожающие долгим взглядом незнакомую коляску с седоком, выделявшимся из того общего ряду, к которому были привычны местные обыватели » [6]. Значение слова «обыватель» в современном языке изменилось и теперь обозначает человека, лишенного общественного кругозора, отличающегося косными мещанскими взглядами, живущего мелкими, личными интересами, а не постоянного жителя какой-либо местности.
В тексте Авакяна встречается большое количество устаревших слов: «хлопанцы» (устар. домашние туфли, обычно без задников; шлепанцы), «физио-гномия», «елико», «уста» ; историзмы, обозначающие реалии 19 века: «верста», «лакей», ливрея», «чапец», «сюртук», «имение» и др.
В «тексте–продолжении», так же как и в оригинальном тексте Гоголя, встречаются пейоративы, выступающие в качестве негативной характеристики персонажа, например: «уж сегодня я как пить дать обыграю этого шалопая », «вот подлец », «мало тебе, что ты, скотина , людям пакостишь», «Ах, скотина ! Какая же скотина !», «этот негодяй совершил» [6].
Во фрагментах второго тома «Мертвых душ», написанных Авакяном, также имеются внутренние реплики героев, способствующие колоризации образов, например: «Присутствующие, послушно крестясь, возводили глаза к потолку, под которым резвилась стая всё тех же озабоченных закускою мух, и шептали что--то, еле заметно шевеля губами. Какие слова срывались с их уст, сказать трудно и одному богу известно, но нам почему-то думается, что наместо молитвы многие говорили про себя: «Разрази тебя гром, чёртова баба »; «В первые минуты Чичиков готов был даже приписать эти происходящие в ней перемены своему собственному обаянию, и даже немного испугался этого, подумавши: «Бог ты мой, да как с ней управиться: велика ведь очень...» [6].
Также в «тексте–продолжении» Авакяна присутствуют в большом объеме метафоры, сравнения и гиперболы, свойственные идиостилю Гоголя и имитирующие его: «Месяц нежный и пока еле видимый, тоже уж проступал на синеве, так, что казалось точно кто-то огромный, кем был создан этот чудесный пейзаж, махнул легонько кисточкою, обмоченною в белила, и вывел его сияющую белизной закорючку» [6].
Таким образом, особенности идиостиля Н.В. Гоголя имеются не только в сохранившихся фрагментах оригинального текста, но и воссозданы в «тексте– продолжении» Ю.А. Авакяна. Благодаря этому происходит имитация языкового стиля поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Данный текст следует отличать от стилизации, понимаемой в узком смысле и являющейся одной из разновидностей вторичного текста. Стилизация в поэме «Мертвые души. Том 2» Ю.А. Авакяна является художественным приемом, лежащем в основе «текста– продолжения».
Список литературы Языковая стилизация как художественный прием в "тексте-продолжении" "Мертвые души. Том 2" Ю.А. Авакяна
- Абдулаева Т.К. Особенности идиостиля Н.В. Гоголя в поэме "Мертвые души": Автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.01 / Т.К. Абдулаева; Дагестанский государственный педагогический университет. Махачкала, 2011. 20 с.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
- Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1986. 543 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 421 с.
- Вербицкая М.В. Теория вторичных текстов (На материале современного английского языка): Монография. М.: Издательство Московского университета, 2000. 220 с.
- Гоголь Н.В., Авакян Ю.А. Мертвые души, том 2. [Электронный ресурс]. URL: http://samlib.ru/a/awakjan_j_a/deadsouls2.shtml (дата обращения 15.07.2019).
- Кудина А.Ю. "Текст-продолжение" как разновидность вторичных текстов: к постановке проблемы // Филология и просветительство. Научное, педагогическое, краеведческое наследие Н.М. Лебедева: Материалы конференции (22-23 сентября 2017 г.). Тверь: ООО "СФК-офис", 2017. С. 140-147.
- Семенова Н.В. Цитата в художественной прозе (На материале произведений В. Набокова): Монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. 200 с.
- Флягина Ю.В. Литературное продолжение как предмет лингвопоэтического исследования: Автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / Ю.В. Флягина; МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2000. 31 с.