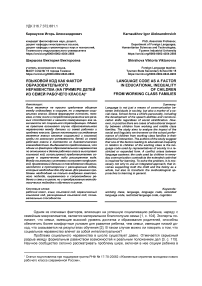Языковой код как фактор образовательного неравенства (на примере детей из семей рабочего класса)
Автор: Карнаухов Игорь Александрович, Ширшова Виктория Викторовна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Язык является не просто средством общения между индивидами в социуме, но и маркером социального класса. Школа формирует личность человека, в том числе и посредством развития его речевых способностей и навыков коммуникации вне зависимости от социальной стратификации. Однако на практике возникают случаи образовательного неравенства между детьми из семей рабочего и среднего классов. Целью настоящего исследования является анализ влияния социальной и языковой среды на школьную успеваемость детей из семей рабочего класса в контексте их диалектического взаимодействия. Выдвигается предположение, что одним из факторов образовательного неравенства по отношению к детям рабочего класса выступает языковой код, используемый представителями социума в ограниченном либо расширенном виде. Между языковыми системами возникает конфликт: код, применяемый детьми в повседневном общении, находится в противоречии с расширенным кодом, который необходим для обучения. Для решения проблемы необходимо не только внедрение комплексного подхода, выраженного в сопровождении ребенка и семьи в целом, но и преобразование методологических подходов к обучению в целом.
Рабочий класс, язык, языковой код, ограниченный языковой код, расширенный языковой код, познавательные способности
Короткий адрес: https://sciup.org/149134522
IDR: 149134522 | УДК: 316.7:372.881.1 | DOI: 10.24158/spp.2020.12.41
Текст научной статьи Языковой код как фактор образовательного неравенства (на примере детей из семей рабочего класса)
Одним из ключевых факторов, влияющих на успешную социализацию ребенка, наряду с семейным микроклиматом, является материальное благополучие семьи [1, с. 104]. Эксперты полагают, что семьи, имеющие высокий уровень достатка и образования родителей, способны обеспечить более комфортные условия для развития ребенка, чем семьи, имеющие низкий доход, что сказывается на результатах обучения [2]. В таком случае можно ли говорить о том, что социальное неравенство влечет за собой интеллектуальное?
Проблема социального неравенства в школе существует давно. Отмечается серьезный разрыв между формальным равенством возможностей и реальным положением дел [3, с. 115]. Научное сообщество склонно рассматривать проблему шире, включая в нее социум ребенка в
∗ Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса современной России».
целом. Утверждается, что «необходимо учитывать влияние на неравный доступ к высшему образованию таких факторов, как: 1) экономический капитал семьи <…>; 2) социальный капитал семьи <…>; 3) культурный капитал семьи [4, с. 115]. Принадлежность к определенному социальному классу связана с классовой идентичностью. Так, «каждый ученик имеет свою уникальную структуру личности, несущую отпечаток той культуры, в какой он воспитывался и рос» [5, с. 22]. Следовательно, дети из семей рабочего класса, жизнь которых неразрывно связана с жизнью их района, будут испытывать трудности при отрыве от своей среды обитания [6, с. 422].
Целью настоящего исследования является анализ влияния социальной и языковой среды на школьную успеваемость детей из семей рабочего класса в контексте их диалектического взаимодействия. Выдвигается предположение, что одним из факторов образовательного неравенства по отношению к детям рабочего класса выступает языковой код, используемый представителями социума в ограниченном либо расширенном виде.
Влияние окружения на ребенка можно отследить через его речь. Языковые особенности позволяют идентифицировать носителя как представителя того или иного социального класса. Так, отклонения от стандартной языковой нормы маркируют представителей рабочего класса, что закрепляет социальное расслоение уже со школы. Как отмечают Х. Розен и Н. Инграм, дети из семей рабочего класса чаще испытывают трудности в обучении именно по причине несоответствия их языка требуемой норме [7, с. 23–24].
Речь ученика выступает средством обучения и измерения его результативности. Способность давать развернутый ответ является главным показателем успешности ребенка в школе. В случае несоответствия языковым требованиям образовательного учреждения педагогическим сообществом часто делается стереотипный вывод о низких интеллектуальных способностях ученика. «Большую роль играют также установки учителя, часто связанные распространенным в педагогических кругах “унифицирующим мышлением”» [8, с. 23].
Б. Бернстайн рассматривал классово-языковой барьер как конфликт разных кодов – ограниченного и расширенного. Под ограниченным кодом им понималась имплицитная форма общения, состоящая из ряда символов с широким значением, зависящим от контекста. Семья передает ребенку ограниченный код через эмфатизацию эмоциональной составляющей, описания конкретных предметов и явлений короткими символическими формами. Расширенный (или выработанный) код подразумевает индивидуализацию носителя через планирование речевого высказывания. Семья формирует у ребенка такой код через интонационную составляющую формальной структуры речи. Логике и планированию речевого поведения отводится значимая роль, чего нет при использовании ограниченного кода. «Социальный опыт, формирующийся до школы, в значительной степени связан с социально-экономическими условиями и культурной средой в семье, характером повседневного взаимодействия между родителями и детьми <…>. Следовательно, различия в исходных условиях могут являться причиной расхождения жизненных траекторий в более взрослом возрасте» [9, с. 16–17].
Школа, являющаяся одним из самых важных общественных институтов социализации, ретранслирует официальную позицию государства, а значит, использует расширенный код. Попадая в образовательное учреждение, при прочих равных условиях ребенок с ограниченным кодом оказывается менее приспособлен к новым условиям, чем его ровесник, использующий расширенный код.
Следует отметить наиболее очевидные характеристики поведенческих моделей детей, использующих разные речевые коды.
Во-первых, ограниченный код предполагает общение на равных; отсылки к социальному статусу считаются неприемлемыми. Ребенок из семьи рабочего класса склонен воспринимать речь учителя как отстраненную, имперсонализированную; сигналы, помогающие в установлении личных отношений, отсутствуют, что обесценивает значимость как личности учителя, так и предмета в глазах ребенка [10, с. 25]. В таком случае учитель разговаривает с позиции статусности, а получает ответ с позиции равенства, поскольку ребенок умеет общаться только так, как принято в его окружении. С точки зрения учителя такой ответ будет выглядеть грубым и неуместным; с позиции ученика педагог будет восприниматься отстраненным и высокомерным [11, р. 429]. Такое положение вещей приводит к игнорированию требований учителя и нарушению дисциплины в классе.
Во-вторых, попытки изменить использование языка и структуру коммуникации создают большие трудности для детей из семей рабочего класса, поскольку касаются преобразования базисной системы восприятия, усвоенной через их окружение. «Неравенство в развитии детей, обусловленное неравенством культурной и интеллектуальной среды, в которой происходит их воспитание, изменить куда сложнее» [12, с. 25]. Кроме того, существует устойчивая положитель- ная связь «между богатством домашней образовательной среды и уровнем развития вокабуля-рных навыков» [13, с. 26]. Обучение происходит механически, путем заучивания требуемого материала и быстрого последующего его забывания в отсутствии подкрепления.
Таким образом, сама система образования построена на игнорировании особенностей восприятия детей из семей рабочего класса. Родители также стараются избегать прямых контактов со школой. «С ростом уровня образования родителей растет степень их заинтересованности в показателях качества образования в школе. <…> Родители с более высоким уровнем образования готовы тратить больше времени на сопровождение ребенка <…>, шире используют информационные ресурсы» [14, с. 117–118]. Данные социологических исследований показывают, что «чем выше уровень образования родителей, тем более отдаленные цели преследуются <…> и наоборот – чем ниже уровень, тем более значимым результатом обучения в школе становится получение хороших текущих отметок» [15, с. 119, 121].
Исправление такого «образовательного неравенства» должно быть комплексным. Раннее детектирование, развитие системы дошкольного обучения, работа социальных служб должны быть вовлечены в этот процесс.
Одной из реальных мер является помощь родителям в вопросах воспитания. В многопоколенных семьях традиции и культурное наследие транслируются через совместно проживающих родственников, что способствует успешной социализации ребенка. При раздельном проживании такая помощь старшего поколения сводится к минимуму. Восполнить этот пробел способна «школа молодого родителя», организованная на базе детского сада, школы, поликлиники или социальной службы. Понимание основных функций родителей, правил коммуникации с ребенком, принципов планирования и построения траектории реализации потенциала играют ключевую роль в развитии личности ребенка и понимании родителями целей его пребывания в школе. Практики и формы взаимодействия родителей с детьми, формирующие общий контекст раннего развития, крайне многообразны. «Некоторые из них могут быть с легкостью воспроизведены в контексте формального дошкольного образования <…>, тогда как другие остаются целиком во власти семей» [16, с. 32].
Развитие навыков конструирования речи должно привести к сокращению разрыва между языковыми структурами учеников через постепенное расширение кода. Поскольку основная проблема заключается в отсутствии понимания структуры языка и узким активным вокабуляром, то за основу был взят структурный подход в обучении языку. Данный метод зарекомендовал себя при обучении иностранным аналитическим языкам. Четко выявляемая структура предложения облегчает составление собственного как устного, так и письменного высказывания [17, с. 2]. Изучение порядка следования слов в предложении позволяет соотносить языковое явление со структурой языка, а в перспективе ведет к автоматизации навыка конструирования грамматически правильного высказывания. Н. Хомский утверждает, что «каждый человек обладает врожденной способностью к овладению языком на основе интуитивного восприятия языковых структур» [18]. «Четкое соблюдение системы языка облегчает процесс обучения» [19].
В рамках нашего исследования мы предлагаем прием структурного расширения языкового кода на уроках, предполагающих конструирование развернутых монологических высказываний. Изучение новых лексических единиц подкрепляется использованием их в речи, но по принципу постепенного расширения: слово – словосочетание – простое нераспространенное предложение – простое распространенное предложение – сложное распространенное предложение. Данный прием предполагает определенные временные затраты, уменьшающиеся по мере освоения принципа построения высказывания (от 15 минут на вводно-обучающем этапе до 3–5 минут на практическом). В структуре урока данный прием отлично вписывается в рамки речевой зарядки и актуализации изученной лексики, при этом не ограничивая формы организации работы. Отработка навыка расширения предложения должна осуществляться систематически.
На подготовительном этапе проводится анкетирование с целью выявления учеников, имеющих признаки ограниченного языкового кода (использование односложных предложений, нарушение структуры предложения и лексической сочетаемости, оперирование просторечной лексикой и сленговыми выражениями, отсутствие ответов или ответы не по сути заданного вопроса). Анализ анкет также позволяет оценить объем использования лексических единиц для продуцирования монологического высказывания, что является измеряемым показателем. Стимулом выступают специальные личностно-значимые вопросы, ответы на которые не предполагают односложность, например: «Чем бы ты хотел заниматься, когда станешь взрослым?», «Каким ты видишь свое будущее после окончания школы?»
Следующим шагом является объяснение принципа работы и фронтальная практика под руководством учителя.
Далее следует практический этап с наращиванием объема активной лексики и расширением грамматических структур в контексте тем рабочей программы с постепенным введением групповых и парных форм работы. Предполагается, что промежуточное и итоговое анкетирование (с незначительным изменением формулировок вопросов или без него) покажет увеличение количества лексических единиц, используемых для построения высказывания, а также усложнение структуры предложения.
Применение приема расширения на уроках иностранного языка позволит усвоить определенные синтаксические структуры, которые в силу единого происхождения имеются как в русском, так и в английском или немецком языках. По этой причине прием целесообразно использовать комплексно: в рамках уроков русского языка, литературы, обществознания, истории. Это позволит через развитие навыков создания развернутого аргументированного ответа на вопрос помочь детям в обучении.
В ходе дальнейшего эмпирического исследования будет изучено практическое влияние применения данного приема на расширение активного вокабуляра и синтаксической структуры предложения при построении монологического высказывания учениками, имеющими признаки ограниченного языкового кода, и их успеваемость.
Ссылки:
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы Языковой код как фактор образовательного неравенства (на примере детей из семей рабочего класса)
- Уваров А.Г., Ястребов Г.А. Социально-экономическое положение семей и школа как конкурирующие факторы образовательных возможностей: ситуация в России // Мир России. Социология. Этнология. 2014. Т. 23. № 2. С. 103-132.
- Полевая Р.П. Социальное неравенство в современном российском школьном образовании // Вестник СПБГУ. 2009. № 4. С. 46-51 ; Суворова Н.В., Пивоварова И.В., Пилипенко Л.М. Материальный достаток как фактор благополучия современной семьи [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования : электронный научный журнал. 2015. № 2 (2). С. 667. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21480 (дата обращения: 19.12.2020).
- Власова Т.А. Проявление социального неравенства в школах на примере этнокультурного образования в Ижевске // Социокультурное развитие большого Урала: тренды, проблемы, перспективы. Екатеринбург, 2015. С. 115-121.
- Фурсова В.В., Ханнанова Д.Х. Социальное неравенство в системе образования: российские и зарубежные теории и исследования. М., 2013. 280 с.
- Казанцева В.А. Гетерогенность и социальное неравенство в начальной школе актуальная проблема современности // Концепт. 2015. Т. 37. С. 21-25.
- Ingram N. Working-class Boys, Educational Success and the Misrecognition of Working-class Culture // British Journal of Sociology of Education. 2009. Vol. 30, iss. 4. P. 421-434. https://doi.org/10.1080/01425690902954604.
- Rosen H. Language in the Education of the Working Class // English in Education. 1982. Vol. 16, iss. 2. P. 17-25. https://doi.org/10.1111/j.1754-8845.1982.tb00449.x.
- Казанцева В.А. Указ. соч. С. 23.
- Слишком высокие ожидания? Результаты международного мультидисциплинарного исследования роли раннего воспитания и образования в социальном неравенстве / Н. Кулич [и др.] // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. 19. № 5 (88). С. 15-38.
- Bernstein B.B. Class, Codes and Control. Theoretical Studies Towards a Sociology of Language. L., 2003. 225 p.
- Ingram N. Op. cit. Р. 429.
- Слишком высокие ожидания? Результаты международного мультидисциплинарного исследования ... С. 25.
- Там же. С. 26.
- Власова Т.А. Указ. соч. С. 117-118.
- Там же. С. 119, 121.
- Слишком высокие ожидания? Результаты международного мультидисциплинарного исследования ... С. 32.
- Певницкая Е.Л. Структурный подход в обучении английскому языку: анализ синтаксических структур // Гуманитарный вестник. 2013. № 5 (7). С. 1-8. https://doi.org/10.18698/2306-8477-2013-5-71.
- Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972. 126 с.
- Аталян Г.Б., Кисамеденова Н.Г. Основной принцип изучения русского языка как иностранного: использование паттернов для моделирования речи // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2019. № 1 (101). С. 57-65. https://doi.org/10.26293/chgpu.2019.101.1.008.