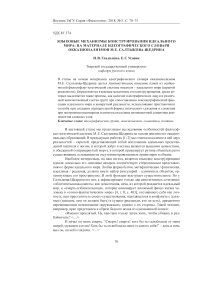Языковые механизмы конструирования идеального мира: на материале идеографического словаря окказионализмов М.Е. Салтыкова-Щедрина
Автор: Гладилина Ирина Владимировна, Усовик Елена Григорьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе материалов идеографического словаря окказионализмов М. Е. Салтыкова-Щедрина дается лингвистическое описание одной из особенностей философско-эстетической системы писателя – идеального мира (скрытой реальности). Определяются языковые механизмы его конструирования, среди которых выделяются такие приемы, как наличие идеографических лакун и различный количественный состав групп при сопоставлении лексикографической фиксации идеального мира и конкретной реальности, использование приставочного способа при создании отрицательной формы логического суждения и сложения при построении оксюморона и антитезы на основе антонимичной семантики компонентов сложных слов.
Идеографическая группа, окказионализм, семантика, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/146281294
IDR: 146281294 | УДК: 81`374
Текст научной статьи Языковые механизмы конструирования идеального мира: на материале идеографического словаря окказионализмов М.Е. Салтыкова-Щедрина
В настоящей статье мы продолжаем исследование особенностей философско-эстетической системы М. Е. Салтыкова-Щедрина на основе анализа его окказиональных образований. В предыдущих работах [1; 2] мы отмечали наличие в ней двух реальностей – скрытой, представляющей собой воплощение идеальных представлений писателя о жизни, в которой добро и истина являются высшими ценностями, и обыденной («перевернутый мир»), в которой превалирует рутина обывательского существования, основанная на отсутствии нравственных ориентиров и обмане.
Наиболее интересным, на наш взгляд, является языковое конструирование идеала: насколько его описание автором соответствует стереотипным представлениям о форме идеального мира. Любая форма бытия, метафизическая / физическая, идеальная / реальная, должна иметь набор сингулярий – единичных объектов, организующих его пространство. В этой функции выступает существительное. Но у Салтыкова-Щедрина его нет, а зафиксировано только два аппозитивных сочетания: «обличительница-совесть» как экзистенция, веха, из которой рождается идеальный мир, и «смерть-избавительница», которая номинирует желаемый финал жизни человека в «сонно-фантастическом мире» [4, т. 8, с. 403], осознавшего себя как личность, всю преступность своего существования, находящегося в конфликте с должным (идеалом, кем он должен быть) и сущим (реальным, кто он есть), драматично переживающим непонимание окружающих, травлю с их стороны. Такой человек, например, ярко представлен в образе бедного волка из одноименной сказки:
«Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? <…>
И начал он звать смерть. “Смерть! смерть! хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!” – день и ночь выл он, на небо глядючи. <…>
Наконец смерть сжалилась-таки над ним. <…> Лежит однажды волк в своем логове и слышит – зовут. Он встал и пошел. Видит: впереди путь мехами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти…
И вдруг его ударило прямо между глаз.
- Вот она... смерть-избавительница!» [Там же, т. 16(1), с. 43-44].
Само понятие совести связано с концепцией раздвоенности действительности как преломлением идеальной идеи в физическом мире. В обывательской жизни совесть не входит в систему нравственных ценностей общества: «Всякий швырял ее (совесть. – И. Г., Е. У. ), как негодную ветошь, подальше от себя; всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие» [Там же, с. 14]. Однако, по мысли автора, совесть – это то, что позволяет человеку не потерять себя, ее отсутствие низводит его до уровня деградации: «Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! <…> Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение» [Там же].
В связи с этим неслучайно появление элемента «обличительница» в рассматриваемом аппозитивном сочетании. Именно совесть пробуждает в человеке самосознание, разоблачает ложность окружающей действительности и раскрывает настоящее, истинное положение человека. Когда один из персонажей сказочного цикла поднял с пола тряпицу-совесть, то «память без пощады извлекла из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд; воображение облекло эти подробности в живые формы. Затем сам собой проснулся суд… Жалкому пропойцу всё его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд» [Там же]. Поэтому идеальный мир писателя окрашен этически ценностно, в качестве сингулярий выступают именования нравственных ценностей, и в этом его главная особенность.
Она же диктует и наличие идеографических лакун, а именно: отсутствие групп, входящих в зону социальных отношений «Социальные состояния и отношения, социальные устои, социальный уклад», хотя она чрезвычайно богато представлена в лексикографической рубрике «Обыденная действительность» словаря окказионализмов М. Е. Салтыкова-Щедрина (12 групп, 34 языковые единицы), и группы «Физические характеристики. Внешний облик». В разделе «Обыденная действительность» она представлена одной лексемой человеко-медведь , которая в идеологической стратегии творчества писателя, и в частности в сказке «Дикий помещик», номинирует степень нравственной деградации человека: одичавший помещик сочетает в себе черты человека и животного.
Бытийный контекст социальной жизни человека как отражение идеала находим лишь в идеографической зоне «Отношения в обществе. Моральные отношения. Моральные категории и состояния». Эта точка пересечения дает наиболее яркое представление о конструировании писателем положительного конца аксиологической шкалы - должного (имеем в виду контекстуальную антонимию: обличительница-совесть – гиенство, гиенское, по-порочному). Безусловно, экспликацией нравственных ценностей обыденной действительности является сущ. гиенство: «Ибо для того, чтобы оно (человеческое. – И. Г., Е. У.) восторжествовало, необходимо только одно: осветить сердца и умы сознанием, что “гиенство” вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывают ему безумный и злой предрассудок» [Там же, т. 16(1), с. 197].
Добро и зло в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина воплощается в разнообразных художественных образах. В сказке «Гиена-оборотень» зло представлено в аллегорическом образе животного-хищника гиены, который олицетворяет собой социально-психологический тип деградировавшего человека.
Основу структуры лексического значения данной единицы составляют процессы приглушения узуальной денотации – соотнесенность со свойствами реального животного – и формирования окказиональной референции, выступающей как общая денотативная отнесенность: зло – лексема с отвлеченным значением, а признаками денотата являются текстуальные характеристики зла – жестокость, античеловечность, агрессивность.
Две другие названные выше лексемы атрибутируют этическую систему «перевернутого мира»:
«“Человеческое” никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало его “ гиенское ” , продолжало гореть [Там же];
«И не успели Добродетели опомниться, как у Лицемерия уж и глазки опущены, и руки на груди сложены, и румянчик на щечках играет… девица, да и шабаш!
– Ишь, дошлая! ну, а по ихнему, по-порочному… как?
Но Лицемерие даже не ответило на этот вопрос. В один момент оно учинило нечто, ни для кого явственно не видимое, но до такой степени достоверное, что Прозорливство только сплюнуло: “Тьфу!”» [Там же, с. 48].
Этот же механизм – построение антитезы – мы наблюдаем и при соотнесении аналогичных групп в ипостасях скрытого и обыденного, где нередко антонимия задается одним из компонентов сложного слова при повторении другого, как в группе «Интеллектуальное состояние. Образ мыслей. Мнение. Точка зрения»: «Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие . Чтобы они, так сказать, по всему лицу земли едиными устами. О вреде градоначальнического многомыслия распространюсь кратко [Там же, т. 8, с. 424] (здесь и далее курсив в цитатах наш. – И. Г., Е. У. ).
В «Истории одного города» отмечено шесть словоупотреблений лексемы многомыслие , причем из них четыре раза в синтагме граданочальническое много-мыслие как характеристика нежелательных действий административного лица. Значение окказионального слова – ‘наличие нескольких взглядов, оснований для произведения разных действий’ – реконструируется в контексте при сопоставлении с антонимом единомыслие (ср.: « Единомыслие … Одинаковый образ мыслей в чем-л., согласие во взглядах» [6, с. 463]).
Сюда же примыкает окказионализм единоначалие как характеристика деятельности представителей власти («Бесспорно, что принцип единоначалия непререкаем; бесспорно, что власть единоличная, коль скоро она вручена лицам просвещенным и согреваемым святою ревностью к общественному благу <…> не только не приводит государств на край гибели, но даже полагает основание их несокрушимости» [4, т. 12, с. 77]) и окказионализм многосмысленный из группы «Социальные устои. Закон»: «…город Глупов, по самой природе своей, есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах отяготительных и многосмысленных » [Там же, т. 8, с. 360].
Группа « Действия, отражающие моральные качества человека»: «Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его. “Отчего же, – говорил ему внутренний голос, - <^> ты не шел прямо и не самоотвергался ?”» [Там же, т. 16(1), с. 205]
// «Откуда это самошпионство, самоподслушивание, самонаушничество, эти вечно гноящиеся триязвы, которые неустанно точат провинциала…» [Там же, т. 7, с. 198].
Группа «Моральное и эмоциональное состояние».
Страдалица-мать – персонаж сказки «Деревенский пожар», женщина, потерявшая в огне ребенка, испытывающая подлинно глубокое чувство страдания, в отличие от мнимого сочувствия Верочки и ее матери – поместных дворян.
Пустоутробие : «Природа благосклонна; люди – злее. Природа не допускает строго последовательного пустоутробия ; люди, напротив, слишком охотно настаивают на этой последовательности. Если б природа хотела быть до конца жестокою, она награждала бы живых людишек тем же идиотским упорством побуждений и движений, каким награждает Изуверов своих деревянных людишек» [Там же, т. 16(1), с. 116]. Лексема пустоутробие зафиксирована в сказке «Игрушечного дела людишки», основной мотив которой – мотив кукольности – представляет убеждение Салтыкова-Щедрина в том, что требование беспрекословного повиновения парализует человеческую волю, превращая людей в механизмы. Кукла – синоним античеловечности, бездушия, поэтому пустоутробие – место неживое, мертвое, ненастоящее – свойственно кукле или человеку, превратившемуся в нее (ср. в словаре В.И. Даля: благоутробие – «доброта сердца, милосердие, благодушие» [3, т. 1, с. 95]).
Интересно, что и один из атрибутов морального состояния человека представлен оксюмороном скромно-честолюбивый : «А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолюбивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. “Лай, Трезорка, лай!”» [4, т. 16(1), с. 134].
Другим языковым механизмом конструирования идеального мира является образование окказионализмов с префиксами не-, анти - с отрицательным значением, что создает форму отрицательного логического суждения «S не есть P».
Группа «Черты характера, отражающие отношение человека к себе».
Не-ревизский : «Крамольников торопливо ощупал себя <…> в качестве ревизской души, он существует в том же самом виде, как и вчера. <…> И за всем тем для него не подлежало сомнению, что его нет. Нет того не-ревизского (курсив Салтыкова-Щедрина. – И. Г., Е. У. ) Крамольникова, каким он осознавал себя накануне. <…> У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала возможность огнем зажигать сердца других» [Там же, с. 198]. В образе Крамольникова писатель отмечает выламывающиеся из обыденной, привычной действительности единичные феномены в осознании человеком себя, в результате чего появляется не-ревизский человек, служащий высоким общественным задачам, который, правда, быстро разрушается властью.
Группа «Черты характера, отражающие нравственную сущность человека».
Неподлежащее : «Как тут остановить наплыв “лишнего” в партикулярном мире, когда и сноси собственной цитадели, куда ни вскинь глазами, – везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!» [Там же, с. 64]. Неподлежащее является контекстуальным синонимом лишнего , характеризует определенную жизненную позицию. Например, после того как воблушку провялили на солнце, она радуется: «– Как это хорошо, – говорила вяленая вобла, – что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести – ничего такого не будет! Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!» [Там же, с. 62–63].
Таким образом, под лишним и неподлежащим писатель подразумевает активную жизненную позицию человека, в первую очередь осознание им себя как личности, что влечет за собой стремление быть свободным, неугнетенным господствующей моралью и идеологией всеобщей государственной благонамеренности и благонадежности.
Группа «Речевые акты, не прикрепленные к официальной или специальной сфере». Окказиональные лексемы антибред, антибредить, антибредни :
«Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажет, где раки зимуют, завтра – куда Макар телят не гонял, послезавтра – куда ворон костей не заносил, а в заключение объяснит, как Кузькину мать зовут! Вот сколько наук! <…>
Стало быть, во всем должна быть мера, милая тетенька. Мера – в парении чувств и мыслей и мера – в предательстве. Так что ежели который человек всю жизнь “бредил”, а потом, по обстоятельствам, нашел более выгодным “ антибре-дить ”, то пускай он не прекращает своего бреда сразу, а сначала пускай потише бредит, потом еще потише, и еще, и еще, и, наконец – молчок! Тогда он уж бесстрашно может, на всей своей воле, антибредом заняться, и все будут говорить: “Из какого укромного места этот безвестный ры̀ барь явился? что-то мы его как будто прежде не замечали!” А между тем – он самый и есть!»[Там же, т. 14, с. 254, 256–257].
Данные лексемы, зафиксированные в «Письмах к тетеньке», складываются в антонимические пары бред - антибред, бредить - антибредить, бредни - антибредни , в которых первые компоненты в контексте произведения являются семантическими окказионализмами – скрипторами «обыденной действительности»: бредить – «думать или говорить о тривиальном, общеизвестном, выдавая его за истинные знания»; бред –«о чем-либо банальном, обыденном»; бредни – «рассуждения о тривиальном». При сопоставлении с языковыми значениями данных лексем – «говорить бессвязно и непонятно», «бессмысленная речь, несуразное», «фантастические, нелепые, странные мысли или речи» [5, с. 114] – можно наблюдать, как их коннотации создают семантическую полифонию, одновременно нивелируясь (оценка обывателя, человека «обыденной действительности») и приобретая крайне отрицательные характеристики (оценка автора и человека «скрытой реальности»). Таким образом, щедринские окказионализмы реализуют в контексте положительные коннотации.
Список литературы Языковые механизмы конструирования идеального мира: на материале идеографического словаря окказионализмов М.Е. Салтыкова-Щедрина
- Гладилина И. В., Усовик Е. Г. Опыт конструирования идеографического словаря окказионализмов (на материале произведений М. С. Салтыкова-Щедрина). Статья 1//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 1. С. 122-129.
- Гладилина И. В., Усовик Е. Г. Опыт конструирования идеографического словаря окказионализмов (на материале произведений М. С. Салтыкова-Щедрина). Статья 2//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 3. С. 122-133.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз., 1999.
- Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. лит., 1965-1977.
- Словарь русского языка: В 4 т./гл. ред. А. П. Евгеньева. Т. 1. М.: Рус. яз. 1986. 736 с.