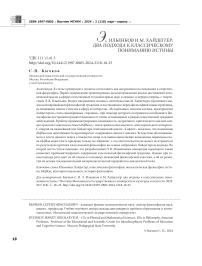Э. Ильенков и М. Хайдеггер: два подхода к классическому пониманию истины
Автор: Бычков С.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: К столетию со дня рождения Э. В. Ильенкова (1924-1979)
Статья в выпуске: 2 (118), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка сопоставить два направления исследований в современной философии. Первое направление ориентировано на категориальный анализ достижений человеческой мысли в сферах естественных и гуманитарных наук и связано, в первую очередь, с творчеством Э. В. Ильенкова. Второе направление связано с деятельностью М. Хайдеггера, бросившего вызов всей европейской философской традиции и поставившего перед философией новые проблемы, не входившие многие столетия в сферу её интересов. «Историзация» понятия истины, предпринятая Хайдеггером, стала своеобразным «тараном», при помощи которого он принялся освобождать философские построения предшественников от плохо осознаваемых в рамках классической традиции заблуждений. В работе продемонстрирована возможность «встречного» критического анализа хайдеггеровского понятия истины (ἀλήθεια) с точки зрения классического «категориального аппарата». С опорой на важнейший для Хайдеггера платоновский диалог «Софист» показано, что понимание ἀλήθεια как непотаённости противоречит содержанию данного диалога. Вследствие обосновываемого в тексте диалога тезиса о тождестве вещи и её имени единственно возможным переводом слова ἀλήθεια может быть признано только 'незабвение', а это обстоятельство не может не отразиться на результатах критики классической философии на основе избранного Хайдеггером подхода. Во второй части статьи показано, что разработанная Э. В. Ильенковым концепция идеального также позволяет проблематизировать содержание классической философской традиции. Однако при таком подходе речь идёт не об отказе от основных положений философской классики, а об их развитии на основе последовательной материалистической переработки диалектики Гегеля.
Ильенков, хайдеггер, классическая философия
Короткий адрес: https://sciup.org/144163072
IDR: 144163072 | УДК: 111.1:141.3 | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-2118-18-25
Текст научной статьи Э. Ильенков и М. Хайдеггер: два подхода к классическому пониманию истины
Эвальд Васильевич Ильенков и Мартин Хайдеггер – столь крупные фигуры в философии XX века, что при их сопоставлении допустимо отвлечься от конкретных деталей их творческих биографий [10; 4], сосредоточившись на сущностных различиях во взглядах на цели и задачи собственной профессиональной деятельности. Ильенков не претендовал на философскую оригинальность, усматривая главную свою заслугу в изложении классической немецкой философии на литературном русском языке. Хайдеггер же создал новое философское учение – фундаментальную онтологию, развитие идей которой привело в результате к крити- ческому пересмотру всей западноевропейской философской традиции.
Понимание Ильенковым главных задач философской науки было предельно четко сформулировано в завершающей части его «Диалектической логики»: «…создание “Логики”, понимаемой как система категорий, составит только этап. Следующим шагом должна быть реализация логической системы в конкретном научном исследовании. Ибо окончательный продукт всей работы в области философской диалектики – решение конкретных проблем конкретных наук» [7, с. 269]. Так как «формы деятельности “духа” – категории и схемы логики – выводятся из ис- следования истории познания и практики человечества» [7, с. 226], то история человеческой мысли оказывается тем материалом, анализ которого при помощи категорий оказывается универсальным средством исследования как самих логических категорий, так и созданных при их посредстве (очень часто – неосознанно) повсеместно используемых достижений науки и техники. Это понимание целей и задач и представляет, согласно Ильенкову, оформившийся в XIX столетии результат развития классической философии.
Хайдеггер – уже после издания «Бытия и времени» – оценивал свою профессиональную работу также довольно скромно: «Я существую в роли смотрителя некой галереи, который должен помимо прочего следить за тем, чтобы шторы на окнах были правильно подняты и опущены и чтобы несколько великих сохранившихся произведений получили в какой-то мере правильное освещение для случившихся зрителей» [11, с. 212]. Хотя в принесшем ему известность труде уже открываются контуры последующего критического преодоления европейской метафизики, Хайдеггер ощущает себя ещё всецело в рамках традиции. И лишь последующее развитие его мысли привело к радикальным выводам.
Возможно ли подобное критическое отношение к предшествующей традиции в рамках классической философии, полагающей себя – в лице Гегеля – законным венцом её развития? Ильенков отвечал на этот вопрос утвердительно: «Последовательно материалистическое понимание мышления . . . кардинальным образом меняет . . . подход к узловым проблемам логики, в частности, к истолкованию природы логических категорий. Прежде всего Маркс и Энгельс установили, что индивиду в его созерцании дан не просто и не прямо внешний мир, каков он есть сам по себе, а лишь в процессе его изменения человеком и что, стало быть, как сам созерцающий человек , так и созерцаемый мир суть продукты истории.
Соответственно и формы мышления, категории были поняты не как простые аб- стракции от неисторически понимаемой чувственности, а прежде всего как отраженные в сознании всеобщие формы чувственнопредметной деятельности общественного человека» [7, с. 207].
Вероятно, нет лучшего способа оценить степень кардинальности изменения, производимого материалистическим пониманием мышления, чем попытаться проанализировать критику Хайдеггером в докладе «Гегель и греки» философии великого предшественника: «Гегель определяет как “цель” философии: “истину”. Истина достигается лишь на ступени завершения...
Здесь – вглядываясь в историю философии в целом. . . мы задумываемся и спрашиваем: разве над началом пути философии у Парменида не возвышается Ἀλήθεια, истина? Почему Гегель не дает ей слова? Он понимает под “истиной” что-то другое, чем непотаён-ность? Несомненно. Истина для Гегеля есть абсолютная достоверность знающего себя абсолютного субъекта. Для греков же, согласно его изложению, субъект еще не проявляется как субъект. Стало быть, Ἀλήθεια не может быть определяющей для истины в смысле достоверности.
Так обстоит дело для Гегеля. Но если эта Ἀλήθεια, сколь бы туманной и непродуманной она ни оставалась, правит в истоках греческой философии, то мы обязаны всё же спросить: не зависит ли как раз достоверность в своём существе от Ἀλήθεια, при условии, что мы не будем неопределенно и произвольно толковать последнюю как истину в смысле достоверности, а помыслим её как открытие тайны?» [14, с. 387–388].
Мы видим здесь упрёк Гегелю в недостаточной историчности в понимании истоков европейской философии, но такой же упрёк может быть адресован и самому Хайдеггеру. Подобные упрёки, конечно же, были, и явственный отголосок полемики слышен в последующих словах: «…осмысление Ἀλήθεια как непо-таённости и открытия тайны опирается вовсе не на этимологию одного слова, выхваченного из словаря, а на вещь, требующую здесь осмыс- ления, которого не может вполне обойти даже гегелевская философия» [14, с. 388].
Обстоятельные возражения филологического характера в адрес хайдеггеровско-го понимания ἀλήθεια как «не-скрытого», «не-потаённого» приведены в [5]. В слове ἀλήθεια «Хайдеггер усматривал. . . сочетание корня -ληθ- (λανθάνω 'скрывать, таить') и так называемой alpha privativum, меняющей значение следующей за ней морфемы на противоположное. Тем самым ἀλήθεια – в силу внутреннего своего устройства – должна была означать нечто 'не-скрытое', 'явное'. Истина приобретала смысл “откровения (Unverborgenheit) бытия”. . . По мнению Хайдеггера, именно так трактовался концепт истины греческой архаикой, и лишь впоследствии, с разрушением внутренней формы, произошла и переинтерпретация концепта: начиная с Платона, ἀλήθεια меняет свой смысл на более понятную, оценочную “правильность точки зрения”…» [5, с. 38–39].
Н. П. Гринцер отмечает, что «такое, пусть и обоснованное лингвистически, толкование ἀλήθεια вступает в противоречие с “ожидаемым” содержанием философского концепта» [5, 39]. И действительно, в «Федре» Платона, на который опирается Гринцер, читаем, что «мысль всякой души, которая стремится воспринять надлежащее, узрев [подлинное] бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свод не перенесет ее по кругу опять на то же место. При этом кругообороте она созерцает самое справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание – не то знание, которому присуще возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим, но подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии» [13, с. 188].
Подлинное знание и подлинное бытие, пишет Гринцер, «душа может созерцать. . . лишь ценой величайших усилий. . . а стоит ей утратить “силы сопутствовать” богам, она “перестает видеть и, постигнутая какой-нибудь случайностью, исполнится забвения
(λήθη) и зла, и отяжелеет, а отяжелев, утратит крылья и падет на землю”. . . Итак, достичь области истины невероятно трудно; потеряв же возможность видеть её, душа ввергается в “забвение и зло”. . . Противопоставление истины (ἀλήθεια) забвению (λήθη), бесспорно, несет в себе внутреннюю этимологическую обусловленность. Строение ἀ-λήθεια при этом остается прежним, но переосмысление значения корневой морфемы (–λήθ- означает уже не вообще 'скрытое', но 'забвение', тем самым ἀ λήθεια становится уже не 'не-скры-тым', а 'не-забвением') позволяет до некоторой степени сгладить противоречие между непременной труднодостижимостью, отдаленностью “истины” и хайдеггеровской интерпретацией слова ἀλήθεια» [5, с. 42].
Едва ли подобных аргументов филологического и историко-философского характера оказалось бы достаточно для изменения Хайдеггером своей позиции, но на помощь вдобавок к «Федру» может быть привлечён диалог «Софист», оказавший среди всех произведений Платона, пожалуй, наибольшее воздействие на формирование концепции немецкого философа.
В «Софисте» имеется фрагмент (244b6-d13), которому Хайдеггер в своих Марбургских лекциях 1924–1925 гг. уделил достаточно много места [15, S. 450–455], но два момента не привлекли его особого внимания.
Первый момент:
Чужеземец. И вообще соглашаться с говорящим, что имя есть что-то, не имело бы смысла (λόγον) [12, с. 133].
И завершающая часть:
Чужеземец. Но если он полагает, что имя вещи – то же, что сама вещь, он будет вынужден либо назвать имя ничего (μηδενὸς ὄνομα), либо, если скажет, что это имя чего-то, то получится имя только как имя имени (τὸ ὄνομα ὀνόματος ὄνομα), но не чего-то другого существующего (ἄλλου δὲ οὐδενὸς ὄν).
Теэтет. Так.
Чужеземец. …И тогда единое (τὸ ἕν) есть имя единого (ἑνὸς ὄνομα ὂν), и, с другой стороны, есть единое (τὸ ἓν ὄν) имени…
Теэтет. C необходимостью [12, с. 133–134].
В первой части высказывается намерение чужеземца разъяснить Теэтету совпадение имени вещи и называемой этим именем самой вещи (на это указывает слово «вообще»). Из заключения второй части мы видим, что Теэтет – в силу малопонятных для современного читателя причин – соглашается с собеседником. Для наших последующих рассуждений этих двух фактов будет вполне достаточно. Вопрос же об интерпретации данного фрагмента пусть так пока и остаётся не получившей решения проблемой истории философии и науки.
Если мы применяем обосновываемый выше тезис к самому понятию тождества имени и вещи, то здесь пока ещё не предполагается какой-либо связи между тождеством ( то же самое ) и различием ( не то же самое ): об этом говорится в диалоге позже – при рассмотрении диалектики пяти главных родов. А раз дело обстоит именно таким образом, то общий принцип предпочтения глагола перед именем, часто и справедливо используемый в этимологии в случае того или иного разночтения, в применении к ἀλήθεια даёт осечку. Корень глагола λανθάνω отличается (в первую очередь, по звучанию) от корня слова ἀλήθεια. Корень же существительного λήθη полностью с ним совпадает. Поэтому если к проблеме, рассматривавшейся в статье Н. П. Гринцера, подходить не с позиций современной науки, а из воззрений, бытовавших во время описанных в диалоге событий, то приходится признать неточность хайдеггеровского перевода слова ἀλήθεια. Исходный критический настрой Хайдеггера против Гегеля в отношении понятия истины оборачивается и против него самого.
Всё вышесказанное может показаться мелким историческим эпизодом в свете принципа, сформулированного Аристотелем в трактате «Об истолковании» спустя полстолетия после описанных в «Софисте» событий: имена «имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени» [2, с. 94]. С точки зрения современной лингви- стики превосходство аристотелевского принципа перед изложенным в «Софисте» Платоном неоспоримо. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
Аристотель не признал превосходства лежащей в основе «Софиста» диалектики по отношению к математическим наукам. В сочинении «О небе» он критикует концепцию платоновского «Тимея», согласно которой тела слагаются из плоскостей и разлагаются на плоскости. Аристотель утверждает: «Ясно с первого взгляда, сколько противоречий с математикой из нее вытекает, а между тем справедливо либо не ниспровергать математику, либо ниспровергать её на основании принципов более достоверных, чем её аксиомы» [3, с. 342].
В качестве более достоверного принципа, нежели основоположения платоновской диалектики, Аристотель ввёл следующий тезис: «Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении…» [1, с. 125]. Для обоснования этого принципа Аристотелю понадобилось ввести представление о значении слова: « . . . слово. . . что-то обозначает, и притом что-то одно» [1, с. 127].
Последнее, в свою очередь, оказалось возможным благодаря введению Стагиритом в двенадцатой книге «Метафизики» понятия Ума-перводвигателя [1, с. 315–316]. Этот Ум бестелесен, что делает находящиеся в нём эйдосы также бестелесными. Бестелесность аристотелевских эйдосов позволила ему разрешить трудности, возникшие при обсуждении платоновской картины мира в Академии (эти трудности излагаются в первой и тринадцатой книгах «Метафизики»). Оборотной стороной этого философского достижения Аристотеля стало усложнение взаимоотношения между вещами и их именами. Если у Платона в «Софисте» первичной была вещь, то у него первичным стал находящийся в Уме-перво-двигателе эйдос вещи, задаваемый посредством какого-то имени, а лежащая в Космосе вещь превратилась в производный от бестелесного эйдоса объект – значение соответствую- щего эйдосу имени. (Данное обстоятельство превратилось впоследствии в общее место всей классической европейской философии, войдя в качестве само собой разумеющейся предпосылки и в «Науку логики» Гегеля; об этом см.: [9, с. 159–161]).
Существование бестелесного Ума-пер-водвигателя обосновывается Аристотелем следующим образом: « . ..не есть ли в некоторых случаях само знание предмет [знания]: в знании о творчестве предмет – сущность, взятая без материи, и суть бытия, в знании умозрительном – определение и мышление. Поскольку, следовательно, постигаемое мыслью и ум не отличны друг от друга у того, что не имеет материи, то они будут одно и то же, и мысль будет составлять одно с постигаемым мыслью» [1, с. 316]. Образцом умозрительной науки, в которой предмет – «определение и мышление», для Аристотеля и стала теоретическая геометрия, убедительность результатов которой он оценивал выше противоречащих им построений платоновского «Тимея».
Исторически – в конкретных условиях Древней Греции середины IV в. до н. э. – произошедший переворот, осуществленный в философии Стагиритом, был совершенно необходим и по праву расценивался Гегелем со знаком «плюс». Однако со всемирно исторической точки зрения ситуация выглядит несколько иначе. Более высокую планку для оценки аристотелевских достижений задаёт материалистическая концепция идеального , разработанная Э. В. Ильенковым. В первоначальном варианте концепции Ильенков так пишет об идеальном: «Это. . . наличное бытие внешней вещи в фазе ее становления в деятельности субъекта, в виде его внутреннего образа, потребности, побуждения и цели. Именно в этом смысле идеальное бытие вещи и отличается от её реального бытия» [8, с. 222].
Принято – не без оснований – считать, что геометрия привезена греками из Египта. В конце первой книги «Начал» Евклида приведено предложение 46: «На данной прямой надстроить квадрат» [6, с. 57]. Для греков это было сугубо теоретическое (умозритель- ное) предложение: с его помощью доказывались теорема Пифагора и обратное к ней утверждение. Для египтян это было самое что ни на есть практическое задание: для успешного возведения (полной) пирамиды необходимо тщательно разровнять площадку, на которой слой за слоем будут затем укладываться составляющие пирамиду каменные блоки. В случае значительного отклонения расчищенной площадки от квадратной формы постройка пирамиды будет обречена на неудачу: четыре плоскости, соответствующие боковым граням пирамиды, почти наверняка тогда не сойдутся в одной точке, где пирамиду по плану должен венчать специальный камень пирамидальной формы – пирамидион.
Греки не строили пирамид. Поэтому практические архитектурные сведения, привезённые Фалесом из Египта, если и могли быть усвоены, то только как факты умозрительного характера. Ввиду невозможности практического осуществления египетских строительных приемов вспомогательные построения (наподобие построения квадрата на заданной стороне) стали рассматриваться в отрыве от исходной практической стереометрической задачи. В отрыве – означает рассмотрение этой задачи не как пространственной, а как плоской (в полном соответствии с её формальной постановкой). Так одни и те же землемерные приемы (у египтян и греков) стали в конце концов рассматриваться с различных точек зрения: у египтян – как средство успешной постройки пирамиды, у греков – как самоцель. Когда греческая геометрия оказалась под угрозой релятивистских умонастроений софистов (начало этого процесса описано в «Теэтете» в беседе Сократа с другом Протагора геометром Феодором), был изобретен дедуктивно-аксиоматический метод, защищавший построения геометров в отсутствии практического способа удостоверения правильности геометрических построений, имевшегося у египетских архитекторов. Так, в частности, возникла греческая теория параллельных прямых, надобность в которой у египтян просто отсутствовала.
С точки зрения содержания материалистически понимаемой категории идеального, разработанной Э. В. Ильенковым, замена египетской стереометрии на греческую планиметрию была вынужденным обстоятельством, связанным с деградацией идеальной формы деятельности строителей пирамид в Египте на земле Эллады. Греческая стереометрия оказалась надстройкой над дедуктивной планиметрией и потому также приняла дедуктивно-аксиоматическую форму. Вследствие этого греческая математика и стала реальным основанием объективного идеализма в европейской философии. Проторил указанную дорогу именно Аристотель.
Это привело к расцвету греческой геометрии. Теория конических сечений Аполлония позволила И. Кеплеру отыскать первые законы движения планет, легшие в основу небесной механики И. Ньютона. Успехи ньютоновской механики вдохновили Дж. К. Максвелла на создание аналогичной теории для описания явлений электричества и магнетизма (результатом, правда, оказалась теория совсем не ньютоновского типа). В двадцатом веке достижения естествознания привели не только к резкому повышению уровня материального благосостояния людей, но и поспособствовали подготовке к двум мировым войнам и развязыванию опасной гонки вооружений.
Хайдеггер (как, впрочем, и его учитель Э. Гуссерль) не мог не видеть отрицательных сторон прогресса естественных наук и (в отличие от Гуссерля) отказался от попыток построения своей философской концепции по образу и подобию математического естествознания. Ильенков не ставил (не мог ставить) перед собой задачу построения какого-то оригинального философского учения, ибо полагал, что главное в философской науке уже было сделано – в XIX столетии. Своей задачей в философии он считал продолжение дела, начатого К. Марксом и Ф. Энгельсом, дела материалистической переработки главного достижения классической немецкой философии – гегелевской диалектики.
Основной целью данной работы было показать, что на избранном Ильенковым пути исследователей могут ожидать непредвиденные открытия, меняющие взгляд на привычные вещи. В этом отношении не только Хайдеггер, но и классическая философия, ярким представителем которой был Эвальд Васильевич Ильенков, способны открывать новые исследовательские горизонты, где подлежащие решению проблемы сочетают в себе серьёзный научный интерес и практическую актуальность. Значение философского творчества Э. В. Ильенкова для решения стоящих перед человечеством задач (наиболее важными науками для XXI века философ считал политическую экономию и педагогику) трудно переоценить.
Список литературы Э. Ильенков и М. Хайдеггер: два подхода к классическому пониманию истины
- Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 1. Москва: Мысль, 1976. 550 с.
- Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 2. Москва: Мысль, 1978. 687 с.
- Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 3. Москва: Мысль, 1981. 613 с.
- Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества. 2-е изд. Минск: Пропилеи, 2007. 240 с.
- Гринцер Н. П. Греческая à\r|9£ia: очевидность слова и тайна значения // Логический анализ языка. Культурные концепты. Москва: Наука, 1991. С. 38-44.
- Евклид. Начала. Книги I-VI. 2-е изд. Москва-Ленинград: ОГИЗ-ГИТТЛ, 1950. 450 с.
- Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. Москва: Политиздат, 1974. 271 с.
- Ильенков Э. В. Идеальное // Философская энциклопедия. Т. 2. Москва: Советская энциклопедия, 1962. С. 219-227.
- Ильенков Э. В. К вопросу о природе мышления: на материалах анализа немецкой классической диалектики: дис. ... докт. филос. наук. Москва, 1968. 166 с.
- Мареев С. Н. Э. В. Ильенков: жить философией. Москва: Академический проект, Трикста, 2015. 326 с.
- Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс. Переписка 1920-1963. Москва: Ad Marginem, 2001. 416 с.
- Платон. Софист / исслед., пер., коммент., прил. И. А. Протопоповой. Санкт-Петербург: Платоновское философское общество, 2019. 261 с.
- Платон. Сочинения в четырёх томах. Т. 2. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, Изд-во Олега Абышко, 2007. 626 с.
- Хайдеггер М. Гегель и греки // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: пер. с нем. Москва: Республика, 1993. С. 381-390.
- Heidegger M. Platon: Sophistes (Gesamtausgabe, Abt. 2, Bd. 19). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992.