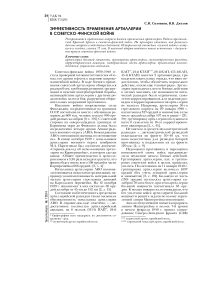Эффективность применения артиллерии в советско-финской войне
Автор: Соловьев Дмитрий Николаевич, Дятлов Владимир Васильевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: История и современность
Статья в выпуске: 1 (30), 2014 года.
Бесплатный доступ
Раскрываются проблемные вопросы боевого применения артиллерии Рабоче-крестьянской Красной Армии в советско-финской войне. На примерах показано, как решались данные вопросы в ходе боевых действий. Исторический опыт боев «зимней войны» актуален и сегодня, спустя 75 лет. В научный оборот вводятся новые источники - документы времен советско-финской войны.
Артиллерия большой мощности, группировка артиллерии, звукометрическая разведка, корректировочная авиация, материальная часть артиллерии, организация взаимодействия, управление войсками
Короткий адрес: https://sciup.org/14031708
IDR: 14031708 | УДК: 94
Текст научной статьи Эффективность применения артиллерии в советско-финской войне
Terra Humana ¹ 1’2014
Советско-финская война 1939–1940 гг. стала проверкой готовности Советского Союза, его армии и флота к ведению широкомасштабной войны. В ходе боевого применения советской артиллерии обнаружился ряд проблем, требующих решения: организация и ведение контрбатарейной борьбы, взаимодействие артиллерии с другими родами войск на поле боя, разрушение оборонительных сооружений противника.
Накануне войны вооруженные силы Финляндии, сосредоточенные на границах СССР, насчитывали вместе с обученным резервом до 600 тыс. человек и около 900 орудий разных калибров [9, с. 191]. С советской стороны на северо-западных границах от Баренцева моря до Финского залива было сосредоточено четыре армии Ленинградского военного округа (ЛВО). Командование ЛВО с оптимизмом оценивало соотношение сил. В конце октября 1939 г. начальником артиллерии военного округа комбригом М.А. Парсеговым был составлен документ: «Справка-доклад об использовании артиллерии на Карперешейке», в котором сделан вывод: «Общее превосходство в артиллерии имеем в 3,36 раза исходя из расчета, что финны будут иметь всего 198 орудий и части Карперешейка 668 орудий» [2, л. 4] * .
Начальника артиллерии ЛВО волновали имеющиеся недостатки организации, например укомплектованность материальной частью артиллерии стрелковых дивизий на Карельском перешейке. На 12 октября 1939 г. некомплект в них составлял 69 орудий калибра от 45 мм до 152 мм [2, л. 15].
Состояние и обеспеченность средствами артиллерийской разведки также вызывали обеспокоенность начальника артиллерии ЛВО. В справке-докладе отмечено: «…не-достаточное количество артиллерийской авиации, на 6 полков (311-й ПАП ** , 24-й
КАП *** , 21-й КТАП **** , 28-й КАП, 455-й КАП, 43-й КТАП) имеется 2 артавиаотряда, три воздухоплавательных отряда, что явно недостаточно, чтобы обеспечить нормальное действие, нужно еще 4 авиаотряда». Артиллерии приходилось вести боевые действия в лесных массивах, где возможности оптической разведки были ограничены, самолетов-корректировщиков для ведения разведки и корректирования огня артиллерии не хватало. Например, артиллерия 50-го стрелкового корпуса на 29 января 1940 г. насчитывала 327 орудий и минометов, в том числе орудий калибра 107 мм и выше – 231. Эту группировку артиллерии обслуживали всего 6 самолетов из 16-го корректировочного авиаотряда [2, л. 45].
Не хватало и средств звукометрической разведки: «…звукометрической разведкой охватывается по фронту 30–40 км, что явно недостаточно для разведки батарей противника и подавления их на фронте 120 км» [2, л. 9].
Недооценка противника и переоценка возможностей своих войск предопределили неудачное начало боевых действий. Группировку артиллерии, как и группировку советских войск в целом, пришлось усилить. По состоянию на 11 января 1940 г. группировка артиллерии включала 1697 орудий (без учета зенитной артиллерии и минометов) [2, с. 191]. Большую ее часть (1301 орудие) составляла артиллерия калибром 76 мм и более, при этом артиллерия большой мощности насчитывала 83 орудия. К исходу января стало очевидным, что без усиления войск артиллерией большой мощности решить задачи по взлому укрепленной линии Маннергейма невозможно.
Анализ безуспешной попытки прорвать линию Маннергейма в полосе 7-й армии в начале февраля 1940 г. привел командование Северо-Западного фронта (СЗФ)
к выводу, что артиллерия не обеспечила выполнение задач. Командующим войсками СЗФ командармом 1 ранга Тимошенко была издана директива №4595 от 4 февраля 1940 г. В директиве указывалось: «Частная операция, проводившаяся 7 Армией в течение 1–2 февраля частями 50 ск, выявила совершенно недопустимое управление огнем артиллерии, особенно при выполнении задач поддержки артиллерии пехоты.
Установлено:
-
1. Артиллерия, вместо того чтобы подавлять своим огнем огневые точки, препятствующие продвижению пехоты, ведет огонь вообще и по площади без определенной цели, совершенно не учитывая в каждый данный момент интересов пехоты.
-
2. Огневая поддержка пехоты проводится исключительно подвижным заградительным огнем, бесцельно расходуя огромное количество снарядов и, фактически, не обеспечивая подавления огневых точек, мешающих продвижению пехоты.
-
4. Полковая, противотанковая артиллерия и минометы не используются для расстрела в упор отдельных огневых точек, мешающих продвижению пехоты…
-
6. В результате плохой организации управления арт. огнем, артиллерия, привлеченная к частной операции, израсходовала до 20 000 снарядов, не подавив огня одной-двух батарей и нескольких минометов противника, от огня которых пехота несла потери» [3, л. 12–14].
…артиллерийские командиры от дивизионов и групп отсутствуют в боевом порядке пехоты и отсиживаются в блиндажах, совершенно не представляя целей, по которым ведут огонь, а передовые наблюдатели батарей выделяются из недостаточно подготовленных командиров и поэтому не умеют отыскивать и определять важность цели и мешающих пехоте.
Артиллерийские командиры доказывали, что задачи не выполняются по вине стрелковых войск. Исправить недостатки в системе управления артиллерией в ходе боевых действий оказалось довольно сложно. Начальник артиллерии СЗФ комкор А.К. Сивков 28 февраля указывал начальнику артиллерии 13-й армии М.А. Парсегову на то, что работа штаба артиллерии «не организована надлежащим образом». В качестве недостатков отмечалось: «оторванность штаба артиллерии от штаба армии», «связь штаба армии и 3 ск совершенно неудовлетворительна», «командиры штаба артиллерии почти исключительно заняты разъездами по частям, что мешает их возможности проводить необходимую организационную работу в самом штабе» [3, л. 55]. Отсутствие эффективных средств разведки стреляю- щих батарей противника обостряло проблему контрбатарейной борьбы. Заслуживает внимания телеграмма №092171, направленная 25 января 1940 г. начальником штаба артиллерии фронта комбригом С.П. Сидоровым начальнику артиллерии 13-й армии комбригу М.А. Парсегову: «Начартфронта приказал обратить Ваше внимание на то обстоятельство зпт что в отношении 107 мм и 122 мм батарей противника которые вели огонь 2 января в течение двух часов не установлен даже район откуда они стреляли тчк Что делает Ваша артавиация и другие виды разведки тчк Надо принимать немедленные меры к подавлению таких батарей вызывая самолеты тчк Срочно разыскать осколки снарядов зпт подозреваемых наличии ОВ отправить на исследование тчк» [4, л. 14].
На основании изучения боевых документов артиллерийских частей можно установить наиболее эффективное средство артиллерийской разведки в контрбатарейной борьбе. В отчете «Описание боевых действий артиллерии 28-го стрелкового корпуса за период военных действий в Финляндии с 1 марта 1940 г. по 12.00 13 марта 1940 г.» начальник артиллерии корпуса комбриг Тихонов отмечал, что на завершающем этапе боевых действий: «447-й кап с новых О<гневых> П<озиций> (ОП) успешно вел борьбу с артиллерией противника с помощью звукораз-ведки, работу с корректировочной авиацией не удалось наладить, т. к., несмотря на неоднократные вызовы корректировщика, он не вылетал ввиду плохой видимости. При появлении его в воздухе один раз, не смогли связаться с самолетом, и самолет улетел безрезультатно» [6, л. 4].. Артиллерийские командиры 28-го с<трелкового> к<орпуса> выделяли звукометрическую разведку в качестве основного средства артразведки для поражения батарей противника.
Советские артиллеристы выполняли огневые задачи с помощью аэростата наблюдения. Командир 3-го дивизиона 447-го корпусного артполка докладывал: «Доношу, что 13 февраля 1940 г. в 18.00 начальником артиллерии 70-й с<трелковой> д<ивизии> дивизиону была поставлена задача подавить белофинские батареи, которые вели ураганный огонь по нашей пехоте. Для корректировки огня был придан аэростат ААД (о) 70. Поставленная задача выполнена дивизионом по-большевистски. Цель №118, батарея, при первом налете дивизиона, после Ворошиловского залпа, на белофинской батарее наблюдался взрыв, а при втором налете бандитская батарея была полностью уничтожена. Вслед за этим дивизиону была поставлена задача подавить цель – батарею №119. После первой корректуры цель была накрыта, и двумя налетами
Общество
Terra Humana ¹ 1’2014
батарея противника была разгромлена. Налет по цели №120 не наблюдался, т. к. аэростат был вынужден опуститься ввиду обстрела самолетом противника» [6, л. 23].
Начальник штаба артиллерии 34-го стрелкового корпуса майор Бескровнов в качестве наиболее эффективного средства артиллерийской инструментальной разведки (АИР) выделял корректировочную авиацию. В отчетах о боевых действиях артиллерии 34-го стрелкового корпуса с 6 февраля по 13 марта 1940 г. он отмечал: «В борьбе с артиллерией противника средства АИР себя оправдали, но наиболее действенным средством для борьбы с артиллерией противника являлась корректировочная авиация и воз-духотряды. С получением корректировщика борьба с артиллерией значительно облегчилась, и наоборот, отсутствие ААО и особенно под Выборгом, затрудняло вести борьбу с артиллерией противника» [7, л. 15].
Сведения об эффективности артиллерийского огня содержатся в докладе помощника начальника штаба артиллерии 50-го стрелкового корпуса (СК) капитана Бреховских: «Результаты разведки батарей противника и их подавление за период боевых действий с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г.». В документе, составленном на основе анализа контрбатарейной борьбы, проводимой 21-м корпусным тяжелым артиллерийским полком, отмечено, что из общего количества разведанных батарей противника 70% были разведаны взводами звуковой разведки, самолетом – 14%.
Советские артиллеристы вели поиск оптимального способа борьбы с вражеской артиллерией. В журнале боевых действий 24-го КАП зафиксировано: «Разведкой 24-го корпусного артполка и авиацией выявлены до 20 огневых позиций, с которых противник проводит короткие огневые налеты залпами до 10–15 выстрелов, а иногда и того менее. Эти ОП находятся вблизи дорог, что чрезвычайно облегчает быстрый уход с ОП, с которых проводилась стрельба. По показаниям пленных, финны больше одного раза с ОП не стреляют, поэтому, чтобы нанести некоторый ущерб противнику, группа АДД вынуждена в случае открытия огня батареей противника, вести одновременный огонь по ряду вероятных ОП. Огонь открывался группой сразу же после открытия огня батареей противника» [8, л. 78].
Опыт ведения контрбатарейной борьбы пригодился в ходе прорыва последнего финского оборонительного рубежа. В журнале боевых действий 24-го КАП записано: «11 февраля 1940 г. В период атаки полк полностью подавил батареи противника, в период атаки и продвижения пехоты в глубину артиллерия противника бездействовала, а если и вела огонь, то чрезвычайно незначительный и то не с участка 123 стрелкового дивизиона (СД), а фланкирующий огонь со стороны Меркки. По показаниям пленных, наиболее сильное моральное и физическое воздействие оказывает наша артиллерия <…> Противник начал поспешный отход. В роще “Фигурная” был захвачен целиком 152-мм дивизион белофинской артиллерии, которому наш артиллерийский огонь не дал подвести передки».
В отчете о боевых действиях 47-го корпусного артиллерийского полка командир полка капитан Шубодеров отмечал: «В результате работы с самолетом дивизион за период военных действий в составе 15 СК с 5 февраля по 13 марта уничтожил 6 батарей и 2 колонны противника <…> огромная насыщенность артиллерии и одинаковые калибры затрудняли летчику вести корректировку. В этих случаях выгоднее вести огонь не одной батареей, а всем дивизионом, и расход снарядов этим не увеличивается, а результат получается лучший, что мы и практиковали в своей работе» [5, л. 32].
В отчетах о боевых действиях части артиллерийской разведки приводили сведения о высоких результатах своей работы. Командир 2-го корректировочного авиаотряда капитан Зайцев в «Отчете о боевой работе 2 ОКАО в борьбе с белофиннами во взаимодействии с артиллерией 15 СК» отмечал, что «отряд, прибывший из г. Гомеля, боевую работу начал проводить с 3 февраля 1940 г. За время боевой работы отряд произвел 127 боевых самолето-вылетов, из них: а) на разведку – 69; б) на корректировку – 33; в) на фотографирование – 14; г) на разбрасывание листовок – 4; д) на бомбометание – 9. Общий налет части за время боевых действий – 144 часа 29 минут. Корректировкой артогня 47 кап уничтожено 10 батарей противника и автоколонна примерно из 30 машин. 49 кап – 7 батарей противника. Фотографированием отдельных участков укрепленного узла заснято 4 площади общим протяжением в 104 кв. км…» [5, л.76].
Из отчета о деятельности фотобатареи следовал вывод: «…за весь период боев от-дешифрировано 176 целей, из них 27 ДОТ, 12 батарей и 137 прочих целей (ДЗОТ, пулеметных гнезд и пр.). Данные дешифрирования были использованы артиллерией корпуса в полной мере» [5, л. 78–80об].
В донесениях отмечались и особенности применения разведки: «Некоторая неувязка и неуважение к звуковой разведке со стороны командного состава огневых подразделений, отсутствие элементарных правил звукометрии являлось тормозом в уничтожении батарей противника. От зву-ко-батареи требовалось то, чего она не мог- ла дать, например, при сильном арт. огне определение координат стреляющих батарей противника, при неблагоприятных метеорологических условиях определение координат ниже 76 мм, минометов, зенитных орудий. В лесной местности (УР Сал-менкайта) звукоприемники подвешивались на деревьях со срубленными маковками и строились примитивные вышки 3–4 метра. Для лучшей работы звуко-разведки требуется обязательная рекогносцировка местности для расположения боевых порядков БЗР в зимних условиях 4–5 часов. Необходимо иметь метеорологические данные на высоте 200–400 метров» [5, л. 82об–83].
Необходимо остановиться на управлении артиллерией и на организации ее взаимодействия с пехотой и танками. Несмотря на приобретаемый в ходе боев опыт, управление артиллерией имело существенные недостатки даже на завершающем этапе боевых действий. Начальник артиллерии СЗФ командарм 2 ранга В.Д. Грендаль приводил примеры неорганизованности: «Начальник штаба не спланировал артподготовку… начальник штаба 202 АП не проверил наименьшие прицелы, в результате преждевременного разрыва один убит и несколько человек ранены…» [4, л. 77]. Начальник артиллерии 34 СК полковник Бельцов отмечал боязнь пехоты своего артогня: «Одним из самых существенных недостатков являлось отставание нашей пехоты от огня своей артиллерии. Очень часто пехота опаздывала выходить на исходное положение для атаки, а в результате получался разрыв между концом артподготовки и началом атаки, что самым губительным образом отражалось на пехоте» [7, л. 16].
Список литературы Эффективность применения артиллерии в советско-финской войне
- Зимняя война 1939-1940 гг. Исследования, документы, комментарии. К 70-летию советско-финляндской войны. -М.: ИКЦ Академкнига, 2009. -816 с.
- РГВА. -Ф. 34980. Оп. 1. Д. 1074.
- РГВА. -Ф. 34980. Оп. 1. Д. 1083.
- РГВА. -Ф. 34980. Оп. 1. Д. 1084.
- РГВА. -Ф. 34980. Оп. 9. Д.570.
- РГВА. -Ф. 34980. Оп. 9. Д. 862.
- РГВА. -Ф. 34980. Оп. 9. Д. 915.
- РГВА. -Ф. 34980. Оп. 9. Д. 1112.
- Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование/Авт. колл. под рук. Г.Ф. Кривошеева. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. -611 с.