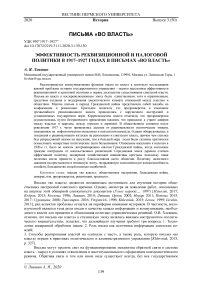Эффективность реквизиционной и налоговой политики в 1917-1927 годах в письмах "во власть"
Автор: Лившин А.Я.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Письма "Во власть"
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается коммуникативная функция писем во власть в контексте исследования важной проблемы истории государственного управления - оценки населением эффективности реквизиционной и налоговой политики в первое десятилетие существования советской власти. Письма во власть в послереволюционную эпоху были единственным, хотя и ограниченным, средством создания и поддержания диалогического климата отношений между властью и обществом. Многие письма в период Гражданской войны представляли собой жалобы на конфискации и реквизиции. Крестьяне полагали, что продразверстка и взыскание чрезвычайного революционного налога проводились с нарушением инструкций и установленных государством норм. Корреспонденты власти отмечали, что продразверстка осуществлялась путем безграничного применения насилия, что приводило к утрате доверия между властью и народом, между городом и деревней. В общественном сознании после революции 1917 г. четко проявлялись далекие от рациональности политические эмоции, замешанные на мифологическом мышлении и психологии вымысла. Однако обнаруживалась и тенденция к рационализации взглядов на революцию и советскую власть, причем чем сильнее был репрессивный нажим на население, тем в большей мере люди были склонны критически осмысливать конкретные политические шаги большевиков. Отношение населения к налогам в 1920-е гг. было во многом детерминировано опытом Гражданской войны, когда миллионы граждан пострадали от насильственных реквизиций. Середняцкая масса деревни считала эффективной политику поощрения хозяйственной инициативы крестьян, поскольку такая политика могла привести к росту благосостояния всего общества. Политику налогового давления на крестьянство в нэповскую эпоху, подрывавшую экономическую жизнеспособность хозяйств, большинство людей полагало ошибочной.
Письма "во власть", общественные настроения, гражданская война, доверие, нэп, продразверстка, реквизиции, продналог
Короткий адрес: https://sciup.org/147246314
IDR: 147246314 | УДК: 930”1917-1927” | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-3-139-150
Текст научной статьи Эффективность реквизиционной и налоговой политики в 1917-1927 годах в письмах "во власть"
Письма «во власть» являются неоценимым источником для изучения истории общественных настроений советского времени. Однако, несмотря на появление работ, основанных на анализе этой обширной совокупности документов ( Голос народа…, 1997) [ Измозик, 2017; Кедров, 2013; Козлова, 1996; Лившин, 2010; Лившин, Орлов, 2002; Нерар, 2011; Попова, 2015 , 2017; Суровцева, 2008; Тихомиров, 2016; Fitzpatrick, 1996; Khlevniuk, 2015; Lenoe, 1999; Livshin, 2013], ряд аспектов проблемы остается на периферии внимания историков. В частности, малоизученной является тема роли писем в качестве канала информации и коммуникации, необходимого власти для принятия и обоснования политико-управленческих решений. О.В. Хлевнюк, отмечая, что письма «во власть» в сталинскую эпоху являлись важным инструментом «политического вмешательства», полагает, что дальнейшего изучения требуют три вопроса: 1. Технологии аппаратной обработки писем; 2. Роль писем как источника информации советских вождей;
Письма могут пролить свет на функционирование механизма обратной связи в системе власть – народ в условиях становления и институционального оформления коммунистического режима. Обратная связь в том или ином виде существует всегда, без нее государственное
управление невозможно. Проблема заключается в качестве обратной связи и в интенсивности функционирования ее каналов. В основе действия механизмов обратной связи лежит не только информация, но и коммуникация. Что касается информации, то все диктатуры страдают «информационной слепотой», поскольку источники получения руководителями сведений о положении «на местах» ограниченны, безальтернативны и зачастую тенденциозны. Типичным примером являются «информсводки» ВЧК – ГПУ – НКВД о настроениях населения [ Лившин, 2010, с. 27, 49–50]. В период Гражданской войны и нэпа, как и позднее, письма «во власть» выполняли функцию частичного компенсирования ограниченности стандартных каналов снабжения «вождей» информацией о положении дел на местах. Однако трудно не согласиться с О.В. Хлевнюком в том, что мы не до конца понимаем принципы отбора писем для прочтения советскими руководителями, применявшиеся тем или иным аппаратом, тем или иным ведомством. В частности, секретариат Сталина часть писем, отнесенных к категории «неинтересных» (менее важных), отправлял в архив, часть отсылал в различные профильные ведомства, еще одна группа предназначалась для советских руководителей высшего звена, наконец, некоторые письма отбирались для ознакомления с ними лично Сталина [ Khlevniuk, 2015, p. 327–344].
Каждый аппарат, имевший выход на представителей высшего советского руководства, использовал собственный алгоритм работы с письмами. Однако нас будет интересовать в первую очередь проблема не столько информационной, сколько коммуникативной роли писем «во власть». Письма представляли собой мощный механизм диалогической коммуникации, отражавший российскую петиционную традицию и соответствовавший российской политической культуре. Коммуникация в петиционной традиции осуществляется в ритуализированных формах, которые предполагают использование «просителями» ритуального дискурса (лесть, ложная (прагматическая) саморепрезентация, применение символики верноподданичества при формулировании своих требований). Ритуальный язык часто камуфлирует подлинную стратегию автора письма, заключающуюся в стремлении добиться властного действия, которое позволит разрешить конкретную проблему, актуальную для пишущего. Вместе с тем письма являются отражением умонастроений и политических эмоций, и в этом состоит их ценность для исследователя.
В данной статье мы попытаемся рассмотреть коммуникативный феномен писем «во власть» в контексте исследования важной проблемы истории государственного управления – оценки населением эффективности деятельности государства в первое десятилетие существования советской власти. Эта проблема является дискуссионной, поскольку критерии оценки эффективности государственного управления в историческом контексте неочевидны, тем более неочевидны они в том виде, в каком были представлены в массовом сознании. В качестве объекта исследования будет взята отражавшаяся в письмах динамика изменений общественных настроений относительно таких важнейших вопросов, как продразверстка в годы Гражданской войны и налогообложение в период новой экономической политики. Анализ источниковой базы позволяет сформулировать две взаимосвязанные исследовательские гипотезы:
-
1. Несмотря на наличие пластов архаического мировосприятия, характерных для аграрного общества, в оценке населением деятельности власти, связанной с реализацией принудительных натуральных повинностей в период Гражданской войны и продналога и иных налогов в эпоху нэпа, преобладал рациональный подход – на базе приоритета экономической целесообразности и сохранения доверия между городом и деревней. Этот подход должен был позволять большинству авторов писем признавать неэффективность государственной политики в сфере налогообложения, поскольку эта политика и во время Гражданской войны, и в годы нэпа строилась на приоритете классово-идеологического подхода.
-
2. Авторы писем, вступая в коммуникацию с властью по поводу реквизиций и налогов, должны были не только стремиться решить частный вопрос в свою пользу, но и предложить адресату свое видение критериев эффективной политики. Одним из критериев эффективности авторы писем могли считать доверие: в какой степени действия государства способствуют укреплению доверия между властью и обществом и между различными группами в обществе?
Для анализа писем «во власть» были выбраны качественные методы, соответствующие характерным для современной социальной истории подходам к исследованию массовых источников. Совокупно они могут быть обозначены как методы обобщения на основе фрагментированных свидетельств [Лившин, 2010, c. 36–38, 47–50]. Они включают метод максимизации воз- можностей вспомогательных доказательств, метод экстраполяции на основе сравнимых данных, метод анализа типичных ситуаций, метод подтверждения путем отсеивания конкурирующих гипотез. Качественный анализ позволяет лучше улавливать скрытые смыслы и неявные дискурсивные стратегии, заключенные в письмах.
Прежде чем приступать к анализу писем «во власть», следует определить, как трактовать эффективность государственного управления и в чем состоят ее критерии. Необходимо констатировать отсутствие универсального и объективного механизма оценки эффективности. Эффективность государственного управления – многокритериальное понятие, она оценивается обществом в целом и каждым человеком в отдельности, а не только учеными и экспертами.
Во-первых, эффективность определяется объективными результатами управления и их соответствием общественным потребностям и интересам. Исходя из этого разграничиваются такие понятия, как результативность и эффективность государственного управления: не каждый результат деятельности власти идет на пользу обществу, особенно в контексте долгосрочной перспективы его развития.
Во-вторых, эффективность определяется общественными издержками, связанными с достижением целей политического курса, в отличие от объективных результатов, полученных вследствие деятельности власти. Иными словами, необходимо разрешить проблему соотношения цели и средств ее достижения.
И это еще не всё. В историческом контексте эффективность определяется с использованием краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных параметров. Подлинные общественные потребности на каждом этапе исторического развития могут быть скрыты за необходимостью решать текущие задачи, что не дает сосредоточиться на стратегическом анализе ситуации, многие же результаты управления государством становятся ощутимы не сразу, а спустя поколение или несколько поколений.
Таким образом, критерии оценки эффективности государственного управления используются при характеристике
-
1) целей и задач, которые ставит власть, в их соотношении с задачами, которые объективно детерминированы общественными потребностями и запросом основных групп населения; иными словами, для определения того, истинные или ложные цели ставит перед собой государство;
-
2) решений и действий государства в соотнесении с их результатами (часто огромные усилия дают незначительные результаты и приводят к неприемлемым социальным издержкам);
-
3) возможностей, заложенных в социально-экономическом и культурном потенциале общества, в соотнесении с реальным использованием государством этих возможностей.
Известно, что сразу после прихода к власти большевики начали проводить политику конфискаций и реквизиций имущества, денег и ценностей у частного капитала и представителей имущих классов. Что же касается продовольствия, то уже 28 октября 1917 г. был принят декрет СНК «О расширении прав городских самоуправлений в продовольственном деле», который давал право местной власти производить обыски без санкции суда у любых граждан и осуществлять принудительное изъятие продовольственных запасов сверх норм, установленных местными органами (СУ РСФСР. 1918. № 1. С. 6–7). Однако массовое изъятие у населения «излишков» связывается с продразверсткой (принудительное натуральное отчуждение сельскохозяйственной продукции у крестьян), которая осуществлялась в годы Гражданской войны наряду с обложением иными видами натуральных повинностей – трудовой, гужевой и др.
Интересно, что первоначально большевики пытались выстроить систему натурального налогообложения крестьян, которая позволила бы не прибегать (по крайней мере, массово) к принудительным реквизициям. 30 октября 1918 г. был принят декрет ВЦИК «Об обложении сельских хозяев натуральным налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных продуктов», предполагавший освобождение от налога бедняков при возложении основной тяжести на зажиточные и, частично, середняцкие слои деревни. Попытки сбора данного налога постоянно проваливались, хотя и предпринимались на протяжении всего периода Гражданской войны. Очевидно, что существовать параллельно с продразверсткой продналог не мог, поскольку экономические реалии военного коммунизма его полностью отвергали.
Не следует также забывать о других, помимо продразверстки, чрезвычайных налогах периода Гражданской войны. 30 октября 1918 г. был подписан «Декрет о единовременном чрез- вычайном революционном налоге», который задумывался как, по сути, конфискационный по отношению к имущим группам городского и сельского населения. Даже при такой, заведомо репрессивной, исходной предпосылке реализация декрета сопровождалась массовыми нарушениями законодательства, репрессивным взысканием налога не только с середняков, но и в ряде случаев с бедняков.
Не приходится удивляться, что многие письма в 1917–1921 гг. представляли собой жалобы на реквизиции. Например, в 1919 г. они составляли 28,4% от всех писем, полученных Наркоматом госконтроля, а в 1920 г. – 29,1% [ Гимпельсон, 1998, с. 174–175]. Реакцию сельского населения на продразверстку в том виде, в каком она была представлена в письмах «во власть», в целом сугубо негативную, можно систематизировать в виде нескольких сюжетно-смысловых блоков:
-
1. Местные власти при осуществлении принудительных реквизиций извращают политику партии, стратегически правильную. Продразверстка и взыскание чрезвычайного революционного налога проводятся с нарушением инструкций и установленных норм, что неминуемо приводит к беззаконию. Зачастую за мероприятиями на местах стоит желание свести счеты и обогатиться.
-
2. Продразверстка осуществляется путем безграничного применения насилия, фактически она сводится к чистому насилию.
-
3. Продразверстка в ее конкретных формах приводит к утрате доверия между властью и народом.
-
4. Продразверстка приводит к росту недоверия в широком социальном смысле – между городом и деревней.
Проанализируем последовательно особенности общественных настроений в период военного коммунизма, соответствующие каждому из сюжетно-смысловых блоков. Комментировать при этом мы будем мнения, которые вполне можно охарактеризовать как типичные и наиболее распространенные в то время, цитируя «типичные», но «интересные» письма [ Лив-шин, 2010, с. 38, 46].
Известно, что для восприятия государства в России характерно отсутствие представлений о целостности властной системы: картине мира рядового гражданина присущи отдельные комплексы представлений о верховном правителе, его соратниках (каждый из которых воспринимается с немалой долей персонифицированной симпатии или антипатии), всех остальных фигурах, населяющих различные этажи властно-управленческой пирамиды. Все эти образы, как правило, не складываются в единое целое, верховная власть нередко трактуется в мифологизированном ключе, а просчеты и управленческие провалы, неспособность действовать на благо жителей возлагаются на низовых бюрократов.
Идея «высшей царской справедливости» укоренена в народном сознании, что не могло не сказываться на оценках реквизиционной политики большевиков. Многие корреспонденты власти даже восстания против продразверстки объясняли не выступлениями против аграрной политики партии, а протестом против действий конкретных низовых исполнителей. «Безграничный террор гражданина Галахова вызвал среди крестьян Уренского края бурный протест, который выразился августовским восстанием. Но это не было восстание против власти – это был неумелый массовый протест против насилий одной личности над многолюдным населением; то крик возмущенного народа против несознательных отдельных представителей правительства», – писал в апреле 1919 г. в Наркомат госконтроля работник внешкольного образования, «крестьянский делегат» Н.И. Дубенский (Письма во власть…, 2012, с. 109).
Крестьяне Московской губернии в письме во ВЦИК просили верховную власть – «центральных врачей нашего народного трудового тела» – «вылечить наши местные болячки» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 56. Д. 6. Л. 82). По мнению крестьян, верховной власти следует «наладить аппарат власти и порядки и распоряжения такие, которые не угнетали бы крестьянина и не поднимали бы злобы на советскую власть», а от местного начальства они лишь получают «бумажки, от которых гнется и ноет спина крестьянина». Продразверстка настолько несправедлива и тяжела, что крестьяне говорят Центру, что они ждут на местном уровне «власти благорассуд-ливой, которая, проводя то или другое распоряжение, сделала тонко, подошла к тому трудовому крестьянину с делом, а не со страхом» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 56. Д. 6. Л. 85).
Необходимо, комментируя письма, помнить, что стратегия лести является достаточно типичной при апеллировании к верховной власти в русле эмоциональной поддержки правящего режима, которая требует ритуальной саморепрезентации в виде лояльности советского гражданина. Такая стратегия наиболее способствовала достижению конкретной цели жалобщика, просителя, которая была обычно связана с устранением притеснений со стороны низовой бюрократии. Но нельзя утверждать, что мы во всех случаях сталкиваемся со своеобразной манипуляцией властью со стороны жалобщика, производимой в его прагматических интересах. С одной стороны, льстить верховной власти, противопоставляя ее неумелому, а то и преступному местному начальству, не означает обязательно ее любить и поддерживать. С другой стороны, идеализирование «вождей» и проклинание рядовых функционеров режима – элемент политической культуры большинства населения, носившей выраженный авторитарно-патерналистский характер. В общественном сознании после революции 1917 г. четко проявлялись далекие от рациональности политические эмоции, замешанные на мифологическом мышлении и психологии вымысла. Однако обнаруживалась и тенденция к рационализации взглядов на революцию и советскую власть, причем чем сильнее был репрессивный нажим на население, тем в большей мере люди были склонны критически осмысливать конкретные политические шаги большевиков.
Местные власти, по мнению многих авторов писем, при осуществлении продразверстки массово нарушали свои же инструкции, постановления и предписания. «Продовольственный отдел нашего уезда требовал с меня доставить 100 пудов ржи и 62 пуда овса. На это требование мы согласились и выставили 40 пудов ржи и 52 пуда овса. Это все наши излишки, которые мы могли доставить, больше этого количества у нас не имеется.
Продовольственный отдел не удовлетворился этим и прислал вооруженный отряд, который произвел у меня самый тщательный обыск. После обыска у нас, конечно, хлеба не нашли. Взамен этого у нас отобрали всю нашу обувь, разули малых детей, [реквизировали] ситец и мануфактуру, полученную мною по карточкам, о чем имеются соответствующие удостоверения», – писал Калинину в 1919 г. крестьянин Максимов (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 55. Д. 4. Л. 635).
На рубеже 1920 и 1921 гг. коммунист Скоробогатов писал в большевистскую ячейку курсов «Вымпел»: «О разверстке. Некто т. Слюняев (по всей видимости, деятель местного продовольственного комитета. – А.Л. ) подал неправильные сведения о засеве земли, больше, чем было засеяно. И у крестьян забрали хлеб подчистую… даже не оставлено на посев… Во время обыска, искания красной одежи, забирали и женскую. И что лучшее одели из военной на себя, остальное якобы отправлено» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 96. Д. 760. Л. 4–4об.).
Данное свидетельство является типичным, в нем отражено несколько мотивов, встречающихся во многих письмах: 1. Неправильные и неэффективные действия местного начальства; 2. Нарушение постановлений и инструкций, предписывавших реквизировать лишь «излишки» и исключавших прямой грабеж. «Крестьян обирают до основания», - писал своему начальству другой курсант курсов «Вымпел» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 96. Д. 760. Л. 10–10об.); 3. Проведение продразверстки конкретными исполнителями, не стеснявшимися присваивать себе часть реквизированного имущества.
Второй сюжетно-смысловой блок – продразверстка является воплощением насилия – широко представлен в письмах «во власть». Нередко их авторы сравнивали поведение продотрядов и всякого рода реквизиционных команд с поведением иноземной армии по отношению к населению покоренной страны. «Из бесед с крестьянами указанных уездов выясняется, что реквизиция овса местами производилась и у тех крестьян, коим была выполнена государственная хлебная разверстка, причем отряды, высылаемые для реквизиции, вели себя, как победители в завоеванной стране, зачастую требуя жареной ветчины, яйца, молока... Такое отношение к середняку и бедняку-крестьянину вселяет в них ненависть к красноармейцам и коммунистам», – писал летом 1920 г. М.И. Калинину крестьянин Тамбовской губернии Н. Кретов (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 56. Д. 8. Л. 170). Таких свидетельств множество. «Контроля над этими лицами нет», – писал о местных деятелях режима Ф.М. Бобриков (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 96. Д. 760. Л. 18). «Крестьянин лишен всякой свободы. Что ни скажет, считают саботажником, ни за что арестовывают. Применяют плетки, оружие и так далее, а кого следует – того не наказывают» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 96. Д. 760. Л. 18). «Наша продовольственная политика часто бывает похожей на политику в неприятельской стране», – жаловался в ВСНХ в марте 1920 г. А. Чударов (Письма во власть…, 2002, с. 160). «Всякое недовольство в деревне, всякий законнейший из законней- ших протест мы привыкли считать ″кулацким″. Между тем, протестовать часто имеют основания не только кулаки, но и бедняки», – добавляет он же (Там же).
«Они [крестьяне] ненавидят Советскую власть, а в особенности коммунистов, потому что разные отряды, которые у них часто бывают, их стращают плетками и винтовками, отбирают съестные продукты, которых у их почти нет, как яйца, масло и мясо», – писал в ЦК партии в 1920 г. крестьянин Федосеев (Там же, с. 189).
«Агенты района по разверстке… на собраниях красноармейцам высказываться не дают, держат себя вызывающе и обязательно с револьвером в руке. Нередки случаи, когда приезжают с отрядом солдат и производят залпы в воздух ″для морального воздействия″, хотя никто и не думал бунтовать. Нередки также случаи, что во время глубокой ночи производят обыски», – писал курсант Морозов, побывавший в отпуске на малой родине, в одном из сел Екатеринбургской губернии (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 96. Д. 760. Л. 8–8 об.).
Подобных примеров, отраженных в письмах, можно приводить бесконечное множество. Нас же интересуют в первую очередь особенности настроений, характерных для массового сознания того времени. Бросается в глаза один феномен: тема насилия тесно связана в письмах с темой доверия. Доверять или не доверять власти, что нужно сделать, чтобы население доверяло большевистскому государству и почему оно сейчас ему не доверяет – эти вопросы тревожат авторов писем. Доверие – фактор социальной интеграции, без которого любое общество не может полноценно функционировать. Доверие является важнейшим компонентом того, что называется социальным капиталом – качественной характеристикой общества, показывающей способность и готовность людей взаимодействовать по горизонтали и вести партнерский диалог с государством. Доверие к власти – хрупкая конструкция в любом обществе, но без него рассчитывать на сознательную дисциплину граждан, выполняющих предписания власти именно осознанно, не из-под палки, не приходится.
В качестве примера истории о разрушении доверия между населением и властью приведем фрагменты письма крестьян села Медного Тамбовской губернии во ВЦИК: «Выполнение хлебной государственной разверстки мы считали священным долгом перед родиной и, движимые пролетарским сознанием этого долга, старались сдать свои излишки на ссыпной пункт» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 56. Д. 8. Л. 226–226 об.). Однако события, по словам авторов письма, развивались по обычному для тех времен сценарию: «Со стороны… продотряда было проявлено столько беспощадной суровости и нечеловеческой жестокости, что население во время пребывания продотряда находилось в паническом состоянии. Насилия и расправы проявлялись в самых диких формах. Немало пришлось перенести побоев, как рядовым гражданам, так и членам сельского Совета» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 56. Д. 8. Л. 226–226 об.). В результате доверие к представителям власти, как считают авторы письма, пропало. Правда, в традиционной для того времени манере ответственность они возлагают на местные органы власти, при этом «крепко веря в правоту Высшей Центральной Власти» (Там же. Л. 226). Но весь пафос процитированного документа заключен именно в потере доверия крестьян к власти.
Архивные фонды содержат немало похожих писем, в которых прямо или косвенно ставится вопрос доверия к власти. Для крестьян «правильная» политика (она же, вероятно, и эффективная) – это та политика, которая не разрушает, а укрепляет доверие к государству.
Отдельной проблемой в тот период, как и во время нэпа, было доверие между городом и деревней. Насильственные реквизиции, по мнению многих авторов писем, неэффективны, потому что они разрушают очень хрупкое доверие крестьянства ко всему, что исходит из города, где сидит «начальство», мало понимающее действительное положение сельских жителей и их реальные нужды. «У всех крестьян сейчас вылилось одно мнение, что коммунисты царствуют последний год и потому стараются так быстро разрушить сельское хозяйство», – писал один из корреспондентов власти в январе 1921 г. (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 96. Д. 760. Л. 8 об.).
Переход к новой экономической политике глубоко трансформировал налоговую политику советской власти, как и финансовую политику в целом. Но некоторые подходы к обязанностям населения по отношению к государству концептуально оставались прежними, базируясь на классовых постулатах большевистской теории. Что касается налоговой сферы, то в нэповский период выделилось два направления деятельности государства: 1) фискальное, задачей которого было добиться бездефицитного бюджета, обеспечить увеличение государственных доходов и создать накопления для инвестиций в восстановление экономики и ее дальнейшее развитие; 2) социально-политическое и идеологическое, имеющее основной задачей ограничение роста частного сектора (прогрессивное налогообложение) и перераспределение национального дохода в пользу рабочего класса и сельской бедноты. Оба направления частично противоречили друг другу, при этом неумелое и неэффективное, идеологически детерминированное стремление отразить в конкретной политике приоритет второго направления могло поставить крест на жизнеспособности нэповской экономической модели. Это, в сущности, и произошло: во второй половине 1920-х гг. второе направление стало ведущим, причем классовый принцип налогообложения заметно гипертрофировался от года к году.
Разумеется, переход от продразверстки к продналогу (позднее – к единому сельскохозяйственному налогу) в начале нэповского периода явился большим облегчением для крестьянства. Заранее определялась величина продналога, а излишками крестьянин мог распоряжаться по своему усмотрению. Величина продналога была значительно меньше: план по продразверстке на 1920/21 г. составлял 423 млн. пудов, а по продналогу на 1921/22 г. – 240 млн. пудов. В 1921–1923 гг. продналог взимался в натуральной форме – зерном, мясом, яйцами, маслом и т.д. С мая 1923 г. он начал частично взиматься в денежной форме, а с 1 января 1924 г. был введен единый сельскохозяйственный налог в деньгах. Надо при этом иметь в виду, что сельскохозяйственный налог являлся основным источником пополнения бюджета (в 1923/24 г. – около половины всех налоговых поступлений и четверть всех денежных поступлений в него) [ Сер-пинский, 1993, с. 43–44]. Эти цифры особенно поражают в сравнении с размером дореволюционных поземельных налогов, составлявших в 1913 г. лишь 2,5% от общей суммы доходов бюджета Российской империи [ Серпинский, 1993, с. 43–44].
Проблема налогообложения находилась в эпицентре формирования отношения к советской власти и в нэповский период. При анализе реакции сельского населения на продналог обращают на себя внимание многочисленные жалобы на ошибки – случайные или злонамеренные – в исчислении размера продналога. В некоторых местностях он был даже тяжелее продразверстки, а в процессе взимания в начале нэпа использовались те же методы, что и при «военном коммунизме», – угрозы, запугивание, прямое насилие. Многие хозяйства, в частности, на Урале, пережив продразверстку, разорялись после сдачи продналога [ Нарский, 2001, с. 350–357]. «В нашей волости производится сбор проднатурналога. Берут проднатурналог, а выходит хуже прошлогодней разверстки. Крестьянин намолотил 10-12 пудов, семья 5-6 человек, а продналогу падает 3-4 пуда и отдай без всяких на то отговорок. Не отдает – в каталажку клопов кормить», – писал в сентябре 1921 г. М.И. Калинину крестьянин из Самарской губернии И. Чернышев (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 98. Д. 2. Л. 90). Если население выражало недовольство размером продналога, то ему «угрожают оружием, чекой, конфискацией в нужных и ненужных случаях. Все сводится к старому – ″не рас-суждать″. И в результате хлебороб не знает, что же законно, что незаконно в действиях того или другого агента и постоянно все недовольство, всю горечь накопляет в себе самом. И уже все дальнейшие действия и распоряжения рассматривает только как издевательство над его личностью», – писал землемер У. Фомин (Письма во власть…, 2002, с. 282). Людей поражали и удручали жестокие репрессии при взимании продналога, в частности, при задержке с его уплатой: «Мой брат уплатил весь продналог до 5 ноября 21 года и только незначительную его часть замедлил взносом до 8 декабря. 10 же декабря состоялся суд выездной сессии Рязанского губернского ревтрибунала и моего брата приговорили к высылке в голодные губернии и конфискации всего имущества», – писала в жалобе на имя В.И. Ленина крестьянка Е.Ф. Ланитина (ГАРФ. Ф.1005. Оп. 2. Д. 89. Л. 571). При этом, если верить данному корреспонденту власти, произошло грубое нарушение законодательства: ведь налог на зерновые должен был быть выплачен к 15 декабря, мясной налог – к концу года с возможностью продления и на 1922 г., и лишь молочный налог в основном должен был быть сдан к 1 августа 1921 (75% от его общего объема) (Сборник декретов…,1921,с. 24, 28, 43). Действия власти в самом начале нэпа, таким образом, бросили тень на всю дальнейшую политику в деревне, нанесли еще один болезненный удар по доверию крестьян к государству, что подтверждается во многих письмах.
Дальнейшее развитие налоговой политики большевиков в период нэпа вызывало массовые настроения, среди которых можно выделить несколько позиций:
-
1) «антикулацкий» подход власти к налогообложению в действительности обращен против середняка; он демотивирует работящих крестьян и поощряет лентяев, при этом честный налогоплательщик не может вырваться из нужды;
-
2) прогрессивный сельскохозяйственный налог ударяет по мелкому товаропроизводителю – основе здоровой экономики; неэффективная налоговая политика, деформируя рыночные принципы, ударяет и по беднейшим слоям, включая батраков;
-
3) налоги на производителей плохо администрируются, а собранные средства идут на негодные цели, включая содержание коррумпированного и неэффективного аппарата местной власти.
Разумеется, в обществе имелись и иные настроения, связанные с налогами. Заметны были голоса тех, кто считал, что нэп противоречит идеям социализма, выстраданным в ходе революции и Гражданской войны. «Победил революционный рабочий класс, сейчас те же капиталисты-буржуи живут, опять наживаются, и это все при власти рабочих», – жаловался Сталину житель Киева в 1927 г. В письмах звучали требования «объявить жестокую войну» буржуазии, «увеличить налоги на имущий класс», «ввести налог на роскошь» и пр. (Письма во власть…, 2002, с. 327–329; 572–573). В целом для настроений и политических эмоций 1920-х гг. характерно сочетание пронэповских и антинэповских идеалов, рациональных, вполне рыночных и традиционно-патерналистских взглядов на роль государства в экономике. В письмах «во власть» этот конгломерат настроений отражался в полной мере. Однако преобладали оценки налоговой политики как весьма негативно сказывающейся на экономическом развитии деревни, на доверии населения к власти, на перспективах нэпа как такового.
«С Октябрьской Революции ежегодно все новые системы сельхозналогов и все говорят представители власти, что новая система сельхозналога будет для нас, крестьян, легче. Вначале применялась продразверстка с более средних и зажиточных крестьян, потом сельхозналог с пашни десятины и со скота. А в настоящее время вырабатывает правительство прогрессивный сельхозналог. Это все называется подходом к крестьянам. Вот и выходит, за все существование советской власти, куда бы ни направляло советское правительство гвозди, они попадают в крестьянина-середняка», – писал М.И. Калинину в начале 1926 г. из Курской губернии крестьянин Василий Халин, выражая чрезвычайно распространенные в тот период настроения недоверия к идеологическому подходу в налоговой политике. «Нам, середнякам, диктуют бедняки, как жить на свете», – добавлял он (Письма во власть…, 2002, с . 471). «Бедняки есть по своей воле, а есть – по стихийным бедствиям. Но эти бедняки, которые по своей воле бедные, они сами себя не хотят жалеть, а советское правительство их не ужалеет», – комментировал этот корреспондент Калинина классово-идеологическое содержание экономической деятельности государства в деревне (Там же, с . 472).
«Мы, партия, должны вести борьбу с эти слоем зажиточных. Но борьба не арестами, штрафами, а налоговой политикой. И что же из этого получится? Да одна вражда к советской власти», – это уже строки из письма Калинину уральского крестьянина А. Чумова (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 62. Д. 1. Л. 61). Данное письмо, вполне типичное с точки зрения переданных в нем середняцких настроений, интересно логикой автора, строем его аргументации. Сравнивая два крестьянских хозяйства, «оба равные землей, скотом и трудоспособными в семье», но возглавляемые в первом случае трудолюбивым крестьянином, стремящимся «расширить свое хозяйство», а во втором – ленивым и нерасторопным сельчанином, автор письма уверен, что налоговая политика власти направлена на поощрение лодырей и наказание работящих и эффективных сельхозпроизводителей. Хозяину второго хозяйства «власть говорит: не горюй, ты наша опора, мы тебя организуем, наставим на путь к социализму. А первому хозяйству власть говорит: стой, не расширяйся, стричь будем. Вот она и политика партии в деревне» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 62. Д. 1. Л. 61–62). В обоснование своей позиции автор письма приводит два суждения. Во-первых, советует власти раскрепостить инициативу и потенциал общества: «Надо дать истинную свободу каждому гражданину, что он ни делает, куда он ни стремится. Пусть работает, городской ли нэпман, деревенский ли он кулак, начальник ли он, комиссар ли народный, безразлично… Вот это путь к социализму – никого не насиловать…» Во-вторых, полагает, что антикрестьянская налоговая политика вбивает клин между городом и деревней, пролетариатом и крестьянством: «А вы, добрые пролетарии, земли у вас в руках, берете с крестьянина за каждую борозду, фабрики у вас, заводы у вас, разве вы не собственники? Вы отмахиваетесь, что это не ваше. Зачем вы берете за землю с нас, крестьян, налог, зачем вы сдаете аренды, концессии? Не лучше ли сказать открыто – не ваше это все, а наше. Тогда мы, крестьяне, будем знать, что у нас хозяева земли есть, надо платить налог им на землю» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 62. Д. 1. Л. 61–62).
В 1927 г. волостной советский работник В. Вербицкий написал письмо в газету «Батрак», в котором описал типичные настроения многих крестьян, подвергавших критике налоговую политику за ее сугубо идеологическую направленность. Он отметил, что крестьяне критикуют деятельность властей с позиций экономической целесообразности, считая, что от прогрессивного обложения «зажиточных» крестьян, нанимающих сезонных работников – батраков, страдает сельское хозяйство, страдают наниматели, да и сами наемные сельхозработники: «без найма хозяйство разоряется». Наниматели стараются обходить требования закона, не заключая трудовые договоры: «Узнаешь, например, что у какого-нибудь крестьянина живет батрак, приходишь к нему, начинаешь говорить, что необходимо заключить трудовой договор, а он отвечает: ″От договора я не прочь, только вот Совет, как узнает, что у меня работает батрак, так всегда налогу больше накладывает…″» (ГАРФ.Ф. 6836. Оп. 1. Д. 22. Л. 70).
Таким образом, в середняцкой группе крестьянства преобладало вполне прагматическое мнение о неэффективности государственного управления в налоговой сфере. Оно разделялось и городскими слоями мелких торговцев, лавочников и ремесленников. Они платили патентные сборы, являвшиеся частью промыслового налога, введенного в июле 1921 г. и взимавшегося с оборота, а не с прибыли, как до революции. С 1922 г. ставки патентного сбора повышались и дифференцировались. Кроме того, утвержденное в 1923 г. новое Положение о государственном подоходно-поимущественном налоге вводило возрастающий прогрессивный налог (от 2 до 25% чистого дохода) для частных лиц и более высокие прогрессивные ставки для негосударственных юридических лиц – товариществ и акционерных обществ. В городах вводились многочисленные местные налоги на предпринимательскую деятельность. «… 90 рублей уравнительного для патентников 2-го разряда, а патентников 3-го разряда, товар которых обходится в 300 рублей, облагают суммой в 120 рублей, а лавочников, владеющих товарами в 500–700 рублей, облагают уравнительным в 800 рублей. Это явление вполне понятно, ибо местный исполком в этом заинтересован; половину всей суммы он берет на нужды местного бюджета, а это и есть довольно хороший заработок», – жаловались в 1924 г. во ВЦИК жители еврейского местечка из Подольской губернии (Письма во власть…, 2002, с . 397).
Был еще один сюжет, постоянно встречавшийся в письмах «во власть»: связь между нерациональной налоговой политикой и порочным механизмом функционирования бюрократического аппарата, в первую очередь местного и низового. «Народ говорит: вместо старых господ явились новые. Вот такие резкости являются среди рабочих и крестьян», – так сформулировал взгляды большинства населения на чиновничество комсомолец Шмелев в письме на имя Сталина в 1927 г. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 514. Л. 125). Во-первых, люди, особенно в деревне, полагали, что налоги неправильно исчисляются и плохо администрируются. Так, в 1924 г., в середине августа, крестьяне в некоторых местностях еще не знали размера продналога, ходили слухи, что он будет в три раза тяжелее прошлогоднего (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 60. Д. 108. Л. 133–134). Но главное – многие крестьяне были уверены, что экономический смысл налогов состоял в изыскании властью ресурсов для содержания «дармоедов» – «интеллигенции», работников кооперативного аппарата («бесхозяственников»), иных местных чиновников, «потерявших доверие народа» (Письма во власть…, 2002, с . 412–415). Эти коррумпированные низовые советские бюрократы «хотят, чтобы крестьяне дали им свои сбережения? Никогда», – категорично высказывались в письме Калинину ставропольские крестьяне (Письма во власть…, 2002, с . 415). Этот «антибюрократический» настрой в связи с налогами заметно проявлялся в письмах «во власть». Неэффективность местного управленческого аппарата увязывается с экономической неэффективностью и даже абсурдностью налоговой политики, построенной на идеологических догмах большевизма.
Подводя итоги, можно утверждать, что общественные настроения в первое десятилетие советской власти представляли собой сложный конгломерат мнений, оценок, эмоций, отражавших полупатриархальный характер социальной психологии глубоко травмированного войной и революцией общества. Кроме этого, картина мира людей той поры формировалась на основе фундаментальных свойств указанного исторического периода. Отношение населения к налогам в 1920-е гг. было во многом детерминировано опытом Гражданской войны, когда миллионы граждан пострадали от насильственных конфискаций и реквизиций. В целом в нэповские годы – годы возврата к относительной «нормальности» в социальной и экономической политике государства – происходила масштабная рационализация взглядов населения на принципы взаимоотношений власти и общества. Эта рационализация, как показывают письма во власть, особенно четко проявлялась в крестьянской среде. Связано это было с разными обстоятельствами, в том числе с осереднячиванием деревни и заложенной в принципы нэпа способностью вести хозяйство на рыночной основе. В этот период у крестьян впервые появилась возможность извлечь экономическую выгоду из перераспределения земли в их пользу. Налоговая политика большевиков отражала противоречия нэповской социально-политической и экономической модели. При этом политико-идеологические императивы все более определяли деятельность власти в налоговой сфере. Середняцкая масса деревни считала эффективной лишь политику поощрения хозяйственной инициативы крестьян, поскольку такая политика могла привести к росту благосостояния всего общества. Опыт военного коммунизма был еще свеж в памяти людей, тотальные реквизиции той поры вызывали массовое недовольство, причем с позиции признания экономической и социальной неэффективности «драконовской» политики власти. Соответственно, политику налогового давления на крестьянство, подрывавшую экономическую жизнеспособность хозяйств, уже в период нэпа большинство людей также полагало неэффективной. Многие рассматривали ее как политику экономического удушения жизнеспособных сил деревни.
Письма «во власть» являлись важным механизмом политической коммуникации. Они в послереволюционную эпоху были единственным, пусть и весьма ограниченным во всех смыслах, средством создания и поддержания интерактивного, диалогического климата отношений между властью и обществом. Но этот диалог лишь в крайне незначительной степени определялся фактором доверия. Доверие – основа социальной солидарности, в укреплении которой власть была мало заинтересована. Однако способность и возможность доверять государству определяли многое в картине мира и в социальном поведении людей послереволюционной эпохи. Неправильная, репрессивная, а следовательно, неэффективная политика (включая политику в сфере налогообложения), по мнению очень многих авторов писем, губительна разрушением атмосферы доверия в стране. Между тем государство и его вожди исходили из диаметрально иных взглядов на доверие. Гражданская война научила власть тому, что ко всем оппонентам, к любым людям, высказывающим малейшие сомнения в правильности политического курса, следует относиться с максимальным недоверием [ Hosking, 2014, p. 11–12]. Поэтому все, кто стремился сделать карьеру или добиться для себя чего-либо в 1920-е, 1930-е гг. и позднее, должны были быть отнесены к категории населения, которой власть доверяет [ Hosking, 2014, p. 12]. При этом государство нуждалось в обратной связи, реализующейся на базе российских петиционных традиций, хотя бы для контроля за низовой советской бюрократией. Поэтому власть стимулировала «сигналы с мест», которые в той или иной степени демонстрировали, по меткому выражению Джеффри Хоскинга, «суррогатное доверие» [ Hosking, 2014, p. 19]. Письма во власть показывают, что сам факт взимания налогов и платежей с населения, как и наложение иных государственных повинностей, не вызывал недоверия к власти и иным социальным группам. Однако репрессивно-принудительные и идеологически детерминированные действия, к тому же осуществляемые неэффективной и коррумпированной бюрократией, вызывали отторжение и разрушали климат доверия в обществе.
Список литературы Эффективность реквизиционной и налоговой политики в 1917-1927 годах в письмах "во власть"
- Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы. 1917-1920 гг. М.: РАН. Б. и., 1998. 257 с.
- Измозик В. С. Письма во власть и реакция власти. 1945-1947 гг. // Новейшая история России. 2017. № 1 (18). С. 226-244.
- Кедров Н. Г. Лапти сталинизма: Политическое сознание крестьянства Русского Севера в 1930-е годы. М.: РОССПЭН. 2013. 280 с.
- Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи (Голоса из хора). М.: Б. и., 1996. 216 с.
- Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917-1932 гг. М.: РОССПЭН, 2010. 344 с.