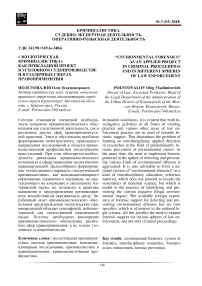"Экологическая криминалистика" как прикладной проект в уголовном судопроизводстве и в различных сферах правоприменения
Автор: Полстовалов Олег Владимирович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 3 (53), 2018 года.
Бесплатный доступ
Сегодня становится очевидной необходимость широкого криминалистического обеспечения как следственной деятельности, так и различных других сфер правоприменительной практики. Этим и обусловлена проблема формирования межотраслевого прикладного направления исследований в области криминалистической профилактики экологических преступлений. При этом обостряется необходимость реализации криминалистического потенциала в сфере выявления экологических правонарушений. Целесообразно формирование отечественного варианта «экологической криминалистики», как междисциплинарного образования, справочного материала, не претендующего на вторжение в систематику материнской науки, но полезного в практике выявления и предупреждения противоправного воздействия на окружающую среду. Зарубежный опыт криминалистического обеспечения предупреждения экологических правонарушений обладает спецификой, небезынтересной для отечественной юридической науки. Поэтому необходимо расширение криминалистического обеспечения различных сфер правоприменения, а не только уголовного судопроизводства.
Экологическая криминалистика, система криминалистики, междисциплинарные исследования, криминалистика в правоприменении, криминалистическая профилактика
Короткий адрес: https://sciup.org/142232834
IDR: 142232834 | УДК: 343.98+349.6+340.6
Текст научной статьи "Экологическая криминалистика" как прикладной проект в уголовном судопроизводстве и в различных сферах правоприменения
“ENVIRONMENTAL FORENSICS”
AS AN APPLIED PROJECT
IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND IN DIFFERENT SPHERES OF LAW ENFORCEMENT
POLSTOVALOV Oleg Vladimirovich
Современная криминалистика в традиционалистском представлении ее предметной области преимущественно ориентирована на обеспечение своими рекомендациями, приемами и средствами уголовного судопроизводства в его пусть и сквозной, отличающейся в стадийном выражении процесса, но все-таки типизируемой проблеме доказывания. Имеющиеся определения криминалистики прямое свидетельство этому. Понимание Р.С. Белкиным криминалистики в качестве науки «о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений» [1, с. 65] является едва ли не общепризнанным и в той или иной мере повторяющимся как в теории, так и в практическом приложении научного потенциала. Расхождение с Р.С. Белкиным в понимании объекта науки Н.П. Яблоковым широко известно, но в главном, в трактовке предмета криминалистики, угадывается общее: «Криминалистика – наука, исследующая закономерности преступной деятельности, механизм ее отражения в источниках информации, особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений и разрабатывающая на этой основе и данных иных наук средства и методы указанной деятельности с целью обеспечения в ее ходе надлежащего применения процессуальных и материальных правовых норм» [2, с. 14-15]. Вместе с тем, в определении Н.П. Яблокова все-таки появляется надежда на прорыв в вопросах не только криминалистического обеспечения доказательственного права, но и всей деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, которая куда как более многогранна, чем собирание, проверка и оценка доказательств. Тем не менее, в криминалистике мы так и не увидели сколько-нибудь заметного продвижения в область разработки рекомендаций, к примеру, по оптимизации деятельности по избранию связанных с задействованием ряда участников уголовного судопроизводства мер пресечения, тактических основ создания оптимальных условий для доказывания посредством реализации мер безопасности для участников уголовного судопроизводства и пр.
Работа автора в профессиональной аудитории и опрос сотрудников правоохранительных органов показали, что в деятельности по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу не меньше тактики, чем при подготовке и производстве немалой части следственных действий. Относительное, но заметное большинство респондентов отметили, что сложная система отношений сторон и суда в процессе избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога создает самое широкое тактическое поле (58% опрошенных). А одержание верха следователем в возникающих подобных конфликтных ситуациях напрямую увязали с появлением более определенной перспективы успеха уголовного преследования 63% опрошенных. По крайней мере, 92% опрошенных заявили, что противодействие избранию меры пресечения в виде заключения под стражу со стороны действующего по договору защитника и его подзащитного в подавляющем большинстве случаев оказывается с наибольшей интенсивностью. Никто не отрицает тактического эффекта от перспективы заключения под стражу. Кроме того, имеются разделяемые всеми криминалистами суждения и об особенностях производства следственных действий с участием арестованного подозреваемого, обвиняемого. Однако сам процесс избрания меры пресечения в виде заключения под стражу до сих пор не предполагает необходимости криминалистического обеспечения, научной обоснованной и ориентированной на практику рационализации. А это, как минимум, труднообъяснимо даже в контексте доминирующей теоретико-доказательственной концепции предмета криминалистики.
Одна из ключевых причин происходящего отрыва криминалистического обеспечения от нужд практики видится в сказанном В.Я. Колдиным и А.И. Усовым. По их мнению, существенный недостаток системного подхода к анализу предмета и объекта криминалистики «состоит в том, что они рассматривались изолированно, в то время как они составляют элементы целостной системы. Как сущность криминалистической деятельности не может быть понята в отрыве от деятельности преступной, так и предмет криминалистики не может быть понят в отрыве от взаимодействия этих видов деятельности» [3, с. 16]. Соотношение и взаимодей-

ствие рассматриваемых систем авторы видят в последовательной системе более высокого уровня информационных каналов, когда «система расследуемого события изоморфно отражается в следовой картине. Система криминалистической деятельности непосредственно отражает следовую картину и опосредованно – систему расследуемого события» [3, с. 17-18]. Внутренняя стройность этой системы должна быть дополнена как основа для реализации криминалистической профилактики теми имманентно связанными с криминальным поведением областями человеческой деятельности, которые уже сами по себе создают криминогенно опасную ситуацию. Этот подход «на опережение», при чем вне привязки исключительно к уголовному судопроизводству, принят за основу в странах англо-саксонской правовой семьи на уровне развития неаутентичной отечественному пониманию криминалистики по смысловому наполнению научной и прикладной отрасли знаний «forensic», а применительно к заявленной теме – «Environmental forensic» (англ. – экологическая криминалистика). Термин «forensic» много ближе российскому варианту экспертной деятельности, чем к криминалистике в собственном смысле слова. Однако именно «Environmental forensic» в США и Великобритании, преимущественно с 2000 г., упорно пробивает себе путь через составление полезного для правоприменителя справочного материала к предметно отдельному направлению научных изысканий. Один из основоположников зарубежной экологической криминалистики Стивен М. Мадж пишет: «Экологическая криминалистика – это настоящий мультидисципли-нарный предмет, в котором химические, физические и биологические методы объединяются в рамках решения задач определения происхождения и степени загрязнения окружающей среды» [4, p. 2]. При этом ни слова не говорится о том, какой конкретно отрасли правоприменения присуща интеграция специальных знаний для решения одной из острейших задач обеспечения безопасности и здоровья от экологических угроз, порой перерастающих в тяжелейшие антропогенные катастрофы, а всего лишь подчеркивается мультидисциплинарный характер предмета приложения усилий в этом направлении. Более того, именно такой подход предполагает работу на опережение, на снижение рисков, иными словами на предупреждение тяжких последствий, которые, как правило, не оказываются без виновных в происходящем преступном развитии событий.
В приведенных выше определениях криминалистики речь идет о предотвращении (Р.С. Белкин) или предупреждении (Н.П. Яблоков) преступлений, т.е. о так называемой криминалистической профилактике. В современных условиях сложнопереплетенных правоотношений, где даже не всегда отчетливо угадываются границы публично-правового и частноправового регулирования, а императивный метод нередко перемежается с диспозитивным, принципиально важным представляется вопрос о готовности криминалистики обратиться не просто к реализации своего прикладного потенциала, но именно к формату профильных исследований к материи много более сложной, чем уголовное судопроизводство в его традиционных рамках. Существующая внутри определенного опыта реальность современного правоприменения как некая имманентность интегрирует различные отрасли судопроизводства, административных процедур, ведомственных расследований, аудиторских проверок, договорно-правовых отношений по оказанию услуг по выявлению злоупотреблений в хозяйствующем субъекте «без выхода» на уровень публичного уголовного преследования (ст. 23 УПК РФ) и в этом смысле не имеет принципиальных различий в приложении криминалистического потенциала. Но мы в силу ограниченности предмета криминалистики его теоретикодоказательственной концепцией всякий раз прибегаем к внешними формам по типу «криминалистика в различных системах правоприменения». Однако, оказавшись внутри традиционно понимаемой предметной области материнской науки, криминалисты вряд ли готовы к тому, что трансформация административных правонарушений, должностных проступков в преступления, а общественноопасной ситуации в реальную картину уже, к сожалению, произошедшего криминального события будет исследована на должном уровне. «Экологическая криминалистика» при всей условности заявленного термина и непривычности его звучания как раз и может стать тем самым маркером зрелости нашей науки в вопросах не декларативного, а реального участия в предупреждении преступлений. В настоящее же время кримина- листика по большей части развивается по остаточному принципу от фактов уже совершенных преступлений, которые, к тому же, удалось выявить, которые нашли свое отражение в судебно-следственной практике.
Разумеется, нельзя не учитывать существенных различий: англо-саксонская «Environmental forensic» преимущественно сложилась на основе имеющихся экспертных практик в установлении причин, характера и масштаба загрязнения окружающей среды в результате антропогенного воздействия для возмещения причиненного вреда людям, восстановления экосистем, устранения вредных последствий в рамках административных и судебных процедур, в то время как отечественный вариант видится в формировании на данном этапе полезного для правприменителя междисциплинарного справочного материала без претензий на изменение системы науки и расширение возможностей профилактического свойства в рамках теории криминалистического предупреждения преступлений. К тому же, нельзя забывать, что американские «экологические эксперты» участвуют в уголовном преследовании компаний (!) по экологическим преступлениям с куда как большей степенью инициативы и автономии, чем лица, привлекаемые для участия в деле в связи с необходимостью использования их специальных знаний, в отечественном уголовном судопроизводстве. Помимо прочего, в соответствии с российским законодательством, как всем известно, юридические лица к уголовной ответственности не привлекаются. В связи с этим последним обстоятельством основные выгодоприобретатели от экономии на экологической безопасности остаются в стороне, а под дамоклов меч правосудия попадают зависимые от политики компании в этой сфере менеджеры.
По свидетельству Стивена М. Маджа, американская экологическая криминалистика развивается быстрыми темпами на основе новых юридических документов и нормативных актов, направленных на стимулирование расследования. Появляются новые инструменты, которые обеспечивают все более точные методы определения химических веществ или изменений в биологических объектах. Ключом к успеху экспертной практики, связанной с окружающей средой, являются достоверные научно обоснованные данные на основе широкого спектра подходов, которые указывают на один и тот же результат. Эти сведения нередко представляют для того, чтобы убедить членов жюри или судейской коллегии, поэтому четкие, сжатые показатели обычно лучше всего. Однако, если нет возможности защитить собственные выводы с научной точки зрения, то это никому не выгодно[5, p. 14]. В российской действительности такой масштаб реализации «экологической криминалистики» даже на уровне предупредительных административных мер и приложения соответствующих специальных знаний вряд ли возможен, пока экономия на экологической безопасности приносит больше выгоды, чем убытков в связи репутационными и имущественными рисками крупных хозяйствующих субъектов и в первую очередь их собственников.
Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы (ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ), уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) как составы административного правонарушения – порчи земли – деликты могут стать начальным звеном в цепи крайне неблагоприятного развития событий и повлечь причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, уже охватываемых материальным составом преступления с аналогичным (!) названием (ст. 254 УК РФ). Так стоит ли криминалистам всякий раз дожидаться наступления вредных последствий или все-таки приложение усилий на уровне накопившихся специальных знаний в области выявления причин, масштаба и характера загрязнения имеет смысл на более ранних стадиях с тем, чтобы о профилактике в этом направлении мы уже не говорили как о некой эфемерной идее?
В УК РФ около девяноста диспозиций норм особенной части содержат отсылку к различного рода правилам, являя собой пример бланкетной конструкции составов преступлений, нередко корреспондирующих в варианте «до наступления вредных последствий» к административным правонарушениям родственной природы. И приведенный пример не является единичным, когда реагирование на криминогенно опасную ситуацию со стороны правопри-

менителя, вооруженного соответствующими криминалистическими рекомендациями, тем эффективнее, чем раньше и оперативнее наиболее рациональные усилия по недопущению развития общественно опасных последствий. Подчеркивая значение норм уголовного права для криминалистики, отмечая доминирование бланкетных диспозиций в УК РФ, О.С. Кучин пишет: «Бланкетная диспозиция не содержит конкретных признаков преступления, а отсылает к нормам других отраслей права – гражданского, административного, трудового и т.д.» [6, с. 20]. Так почему криминалисты в смежных областях правоприменения на самых ранних стадиях возможности трансформации административного или какого-либо другого деликта как первоосновы предстоящих тяжких последствий в рамках уже содеянного преступления не видят сферы своего предмета исследования? В свою очередь, на частном примере И.В. Александров и А.А. Асочаков отмечают, что в расследовании налоговых преступлений основу доказательственной базы составляют материалы документальной проверки, проводимой налоговыми органами, службами оперативных документальных проверок и ревизий, которые имеют стрежневое значение, но при этом качество их порой оставляет желать лучшего: «Нередкими являются случаи, когда уголовные дела возбуждаются на основе недоброкачественных материалов налоговых проверок, что вызывает необходимость назначения и проведения в ходе следствия дополнительных документальных проверок, а затем судебно-экономических экспертиз. В результате, наряду с другими неинтенсивно проводимыми следственными действиями, это влечет неоправданную длительность и, зачастую, бесперспективность расследования таких уголовных дел» [7, с. 86]. И вновь возникает вопрос о целесообразности криминалистического обеспечения работы налоговых органов и применения специальных знаний по налоговым правонарушениям. Может быть в сложившей ситуации отчасти повинны сами криминалисты, которые привыкли работать по остаточному принципу от уже совершенного преступления в чрезмерно строгой привязке к уголовному судопроизводству.
Абстрагируясь от широкого понимания предупреждения преступлений Р.С. Белкиным, обратим внимание на его характеристику данной категории в более узком, специальном контексте. Под предупреждением преступлений корифей криминалистики понимал систему специальных мер правоохранительных органов по недопущению или пресечению преступных посягательств, осуществляемых законными средствами в отношении отдельных лиц, групп и сформировавшихся преступных сообществ [8, с. 170]. Приложение усилий по реализации криминалистического потенциала предупредительной направленности, как видно из сказанного, направлено в отношении отдельных лиц, групп и сформировавшихся преступных сообществ, но не к самой криминогенно опасной ситуации, которая при невмешательстве может повлечь наступление общественно опасных последствий. Полагаем к конкретно виновным в сложившихся опасных ситуациях «на пороге», к примеру, экологических техногенных катастроф следует применять меры профилактической направленности лишь по мере установления причин, обстоятельств, степени и характера допущенного или потенциально возможного загрязнения окружающей среды. Согласно определению А.А. Топоркова, криминалистическая профилактика представляет собой систему «мер следователя, оперативного работника, специалиста (эксперта) и других работников правоохранительных органов по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и по разработке рекомендаций по предупреждению (превенции) преступной деятельности» [9]. При этом все задачи криминалистического предупреждения преступлений в трактовке А.А. Топоркова вращаются преимущественно вокруг предотвращения умышленных посягательств, например, в свете такого направления деятельности, как «своевременное применение неотложных мер по предупреждению подготавливаемых преступлений и пресечению попыток их совершения». Отчасти к криминалистическому предупреждению неосторожных преступлений при весьма высокой степени допущения мы можем отнести сформулированную автором задачу по выявлению наиболее уязвимых в криминалистическом плане объектов и подготовке специальных технико-криминалистических мероприятий профилактической направленности [9]. К сказанному неполному пониманию всего спектра возможностей криминалистической профилактики преступлений стоит добавить справедливое сетование Н.П. Яблокова на то, что в подав- ляющем большинстве учебников вопросам криминалистической профилактики преступлений не уделяется никакого внимания, а изыскания в этой области ведут лишь несколько исследователей. Вместе с тем, по мнению Н.П. Яблокова, «эти вопросы требуют серьезного научного внимания со стороны широкого круга ученых и исследования и разработки ими методических рекомендаций для успешного проведения профилактической деятельности следователями в ходе самого расследования преступлений и по его результатам» [10, с. 24-25]. Думается, что криминалистическая профилактика по мере заимствования конструктивного для отечественной действительности зарубежного опыта и с учетом современных реалий пограничных зон правоприменения – «административные деликты – преступления» – может себе позволить реализовать потенциал куда как на более ранних этапах, и «экологическая криминалистика» на уровне не отдельного подсистемного элемента, а всего лишь некоего пилотного междисциплинарного проекта способна стать такой площадкой для испытания практикой.
Список литературы "Экологическая криминалистика" как прикладной проект в уголовном судопроизводстве и в различных сферах правоприменения
- Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.
- Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011.
- EDN: QRUKNN
- Колдин В.Я., Усов А.И. Методологические функции системного подхода в криминалистике / Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе: Конф., 4-5 декабря 2006 г., Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова: сб. тезисов. М.: МАКС Пресс, 2006. С. 15-20.
- Mudge S. M. Approaching environmental forensics / Methods in environmental forensics / editor, Stephen M. Mudge. Boca Raton, London, New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2009. P. 1-13.
- Mudge S. M. Environmental Forensics and the importance of source identification / Issues in Environmental Science and Technology. Environmental Forensics / Edited by R.E. Hester and R.M. Harrison Royal Society of Chemistry. 2008. No. 26. P. 1-16.
- Кучин О.С. Основополагающее значение уголовно-правовой нормы в разработке криминалистической методики расследования преступлений / Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Краснодарский университет МВД России. Краснодар : Изд-во Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2016. С. 18-22.
- EDN: XREILB
- Александров И.В., Асочаков А.А. Особенности расследования уклонения от уплаты налогов / Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Философия. Социология. Право». 2012. № 8 (127). Вып. 20. С. 85-93.
- EDN: RDVMQP
- Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е издание дополненное. М.: Мегатрон XXI, 2000.
- Топорков А.А. Криминалистика. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012 / Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http:/www.garant.ru.
- EDN: QSOUFL
- Яблоков Н.П. Некоторые проблемы отечественной криминалистики в свете сегодняшнего времени / Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г. / ред.-сост. М.А. Лушечкина. М. : МАКС Пресс, 2015. С. 20-25.
- EDN: VGAPST