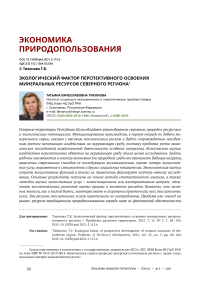Экологический фактор перспективного освоения минеральных ресурсов северного региона
Автор: Тихонова Татьяна Вячеславовна
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Экономика природопользования
Статья в выпуске: 5 т.25, 2021 года.
Бесплатный доступ
Северные территории Республики Коми обладают разнообразным сырьевым, природно-ресурсным и экологическим потенциалом. Функционирование производств, в первую очередь по добыче минерального сырья, связано с высоким экологическим риском и будет сопровождаться неизбежным ростом негативного воздействия на окружающую среду, поэтому проблема учета экологических последствий хозяйственной деятельности особенно актуальна. Комплексная оценка воздействия перспективных объектов на окружающую среду стала целью исследования. Задачи работы заключаются в анализе возможности природной среды воспринимать будущие нагрузки, выявлении современных способов ее последующего восстановления, оценке потерь экосистемных услуг, выраженных в стоимостных и других социальных показателях. Экономическая оценка утраты экосистемных функций и анализ их применения формируют научную новизну исследования. Основные результаты получены на основе метода статистического анализа, а также методов оценки экосистемных услуг - компенсационных или альтернативных затрат; стоимости восстановления; рыночной оценки прямых и косвенных расходов. Выявлено, что местные жители, как и малый бизнес, заинтересованы в сохранении практически всех экосистемных услуг. Вне региона экосистемные услуги практически не востребованы. Продажа или «выход на рынок» ресурсов традиционного природопользования гораздо ниже их фактической обеспеченности. Расчеты показали, что удельная величина ценности экологических услуг составила от 39,4 до 308,8 тыс. руб. / га в зависимости от районов перспективного освоения ресурсов, при этом ущербы от утраты экосистемных функций являются лишь гипотетической стоимостной величиной. В лесных планах 2019-2029 гг. отражены стоимостные характеристики экосистемных функций, которые должны стать элементами кадастровой стоимости. Разработка рекомендаций по включению таких услуг станет направлением дальнейших исследований.
Негативное воздействие, ущерб окружающей среде, экосистемные услуги, лесные и водноболотные экосистемы, перспективное освоение минеральных ресурсов, республика коми
Короткий адрес: https://sciup.org/147237333
IDR: 147237333 | УДК: 332.152
Текст научной статьи Экологический фактор перспективного освоения минеральных ресурсов северного региона
1 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН по теме НИР № 0418-2019-0014 «Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала региона с целью создания новых центров экономического роста».
Расчеты показали, что удельная величина ценности экологических услуг составила от 39,4 до 308,8 тыс. руб. / га в зависимости от районов перспективного освоения ресурсов, при этом ущербы от утраты экосистемных функций являются лишь гипотетической стоимостной величиной. В лесных планах 2019–2029 гг. отражены стоимостные характеристики экосистемных функций, которые должны стать элементами кадастровой стоимости. Разработка рекомендаций по включению таких услуг станет направлением дальнейших исследований.
Негативное воздействие, ущерб окружающей среде, экосистемные услуги, лесные и водноболотные экосистемы, перспективное освоение минеральных ресурсов, Республика Коми.
Ресурсный потенциал Республики Коми позволяет создать крупные центры добывающей и перерабатывающей промышленности и на их основе – новые центры экономического роста на европейском Севере России. Уникальность региона определяется наличием разнообразных источников минерального сырья, благоприятными условиями для их промышленного освоения. Месторождения были отобраны с учетом экономико-географического положения, экономической значимости ресурсов, транспортной инфраструктуры, наличия трудовых ресурсов, а также типа хозяйственного использования территории. В перечень вошли общераспространенные ископаемые (известняки и доломиты, стекольные пески, гипсы, глины, опоки), руды (медные, хромовые, бокситы, фосфориты), бурые угли и горючие сланцы [1]. Потенциальные объекты освоения находятся в северной и арктической зонах региона (Воркутинский, Интинский, Усть-Цилемский и Ижемский районы). Разработка горнорудных месторождений и их эксплуатация сопровождаются воздействием на природную среду. Оценка воздействия и стала целью исследования.
Учет экологического фактора при освоении минеральных ресурсов традиционно охватывает оценку уровня негативного воздействия на практически все природные компоненты среды. Ключевые вопросы такого изменения – структура и объемы, т. е. что изменится в природе и насколько, каким способом она будет восстанавливаться.
Экономические потери выражаются в оценке ущерба окружающей среде через платежи за негативное воздействие, а также утрату экосистемных функций. Дополнительно ущерб может быть нанесен сопутствующим отраслям (например, оленеводству) и населению в осуществлении традиционного природопользования (охота и рыболовство). Уже на сегодняшний день биологи Коми НЦ фиксируют сокращение пригодных для выпаса площадей в связи с промышленным освоением, отводом земель под транспортную инфраструктуру, превышение добывающими компаниями землеотводов. Метаболизм тундровых биосистем претерпевает изменения, которые заключаются в замедлении прироста биомассы, зарастании площадей мхами и лишайниками, ускорении процесса заболачивания. Проведенная спектрозональная спутниковая съемка доказала, что усиливается загрязнение растительных кормов тяжелыми металлами из-за производственных аварийных ситуаций, трансграничного атмосферного загрязнения и климатических изменений [2]. Управление Россельхознадзора по Республике Коми заявило о значительном превышении нормативных показателей содержания токсичных химических элементов (тяжелых металлов и диоксинов) в оленьих субпродуктах, выработанных на сельхозпредприятиях региона.
Экологические риски перспективного освоения состоят в возможном заболачивании территории северных тундровых и лесотундровых экосистем, оттаивании многолетнемерзлых грунтов и, как следствие, увеличении выбросов парниковых газов; загрязнении почвенного покрова, подземных горизонтов и водных источников. Все перечисленные факторы обуславливают актуальность исследования.
Научная новизна работы заключается в проведении эколого-экономической оценки экосистемных функций на территори- ях перспективного освоения горнорудных месторождений, анализа этой информации для принятия сбалансированных управленческих решений.
Оценка негативныхэкологических последствий
Степень и площадь негативного воздействия зависят от рельефа, ветрового режима и растительного покрова местности. Равнинный и пологий рельеф способствует распространению загрязнений на большие расстояния. Сильные ветра рассеивают загрязнения от выбросов. Растительный покров, представленный таежными лесами, является мощным поглотителем техногенного воздействия.
Несмотря на то что все районы исследования входят в зону притундровых лесов и редкостойной тайги, по своим характеристикам они отличаются. Так, если в Воркутинском районе (тундровая зона) растительность представлена низкорослыми кустарниками, то в Ижемском и Усть-Цилемском районах – старовозрастными лесами (120–160-летними) с преобладанием еловых хвойных пород. Очевидно, что вредные вещества выбросов поглощаются таежными лесами в гораздо большей степени, чем тундровой растительностью (табл. 1).
Тундровой зоне свойственна низкая степень поглощения и разбавления техногенных загрязнений, а также длительный процесс восстановления природных функций. Подземный горизонт и почвенный покров подвержены попаданию тяжелых металлов и диоксинов. Новое производство, безусловно, приведет к ухудшению ситуации. Природные условия комплекса северной тайги гораздо лучше способствуют поглощению и разбавлению загрязнений за счет лесистости и водности крупных рек. При этом рассеивающая способность гораздо ниже, чем в тундре.
Наиболее значимым фактором негативного воздействия горнодобывающих предприятий является нарушение ландшафта, которое приводит к возникновению эрозии почв.
Вследствие эксплуатации техники во время производства работ образуются вредные выбросы загрязняющих веществ, а также мелкодисперсных частиц. Они могут распространяться на большие расстояния, особенно в тундровых экосистемах, приводят к ухудшению состояния живых организмов, в т. ч. воздействуют на здоровье людей. Например, при добыче щебеночного камня открытым способом на расстоянии 1,5–2 км от карьера может наблюдаться максимально негативный эффект от загрязняющих веществ выбросов. Частицы пыли распространяются гораздо дальше [3].
Транспортная инфраструктура и, как следствие, шумовое воздействие приводят к изменению ареалов животных, а также являются фактором беспокойства и ограничения с последующим изменением путей миграции оленей.
Значительные площади северных территорий используются для выпаса оленей. Состояние оленеводческих хозяйств для районов перспективного освоения месторождений отражено в табл. 2. На территории Ижемского района находятся оленьи пастбища общей площадью 610,7 тыс. га СПК «Ижемский оленевод и Ко», который зарегистрирован с 2003 года в НАО. Поголовье оленей в нем по состоянию на 1 января 2018 года составляло 27800, насчитывалось порядка 8000 частного поголовья2.
Загрязнение водных объектов вследствие поверхностных производственных стоков усиливает негативный эффект для малых рек. Для северных территорий региона характерна густая речная сеть (за исключением р. Печоры и основных ее притоков – рек Ижма и Уса), с малым объемом стока, что объясняет низкую ассимиляционную способность разбавления поступающих загрязнений.
Добыча минерального сырья ведет к образованию производственных отходов. На сегодняшний день проблема, связанная с ними,
Таблица 1. Характеристики рельефа, климата, растительности и гидрологические особенности районов исследования
|
Район |
Характеристика рельефа |
Специфика климата |
Гидрологические особенности |
Наличие растительности |
|
МОГО Воркута |
Территория характеризуется холмисто-увалистым, преимущественно равнинным рельефом с низинами и врезанными в них долинами рек и ручьев |
Климат характеризуется значительными колебаниями атмосферного давления, пасмурной погодой с низкой облачностью и частыми осадками, сильными ветрами преимущественно северозападного направления (средняя скорость – 5,3 м/с). Годовое количество осадков (530 мм) в сочетании с невысокими летними температурами приводит к избыточному увлажнению |
Характерной чертой гидрографической сети является большое количество озер (1620). В озерах обитают 14 видов рыб (промысловые – хариус, пелядь, сиг). Болота занимают площадь 53,6 тыс. га |
Древесные растения тундры представляют собой низкорослый кустарник. Карликовая березка стелется по земле, ивняк поднимается немного выше. Вдоль дорог, на месте бывших или существующих поселений деревья вырастают до 2–2,5 м. Леса занимают 23,4% площади района |
|
МОГО Инта |
Характер рельефа преимущественно равнинный, восточная часть, примыкающая к Приполярному Уралу, представляет собой горную местность с платообразными вершинами |
Климат континентальный. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направления, а в летний – ветры северных румбов. Средние годовые скорости ветра составляют 5–6 м/с. Сумма осадков – 700 мм, они в основном приходятся на летний период. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет более 80% |
Вся территория располагается в пределах водосборного бассейна р. Уса. Общая ее длина – 565 км, площадь – 93600 кв. км. Р. Уса – самый крупный правый приток р. Печоры. Болота занимают 227,6 тыс. га |
Растительный мир равниной части района представляет чередование зон тундры и лесотундры. Большая часть тундры относится к ерниковой. Мхи представлены всеми группами, разнообразие их велико. Основные лесные породы лесотундры – береза и ель, низкорослые сосны, растущие на сухих грядах и болотистых понижениях. Леса занимают 50,2% площади района |
|
МР Усть-Цилемский |
Рельеф западной (Тиманской) части района относится к типу повышенных денудационных плоскоувалистых, местами слабоволнистых равнин |
Климат умеренноконтинентальный, влажный, с развитой циклонической деятельностью. Сумма осадков – 540 мм, приходятся в основном на летний период года. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 70%. Средние годовые скорости ветра 4–5 м/с |
В восточном направлении протекает река Цильма с притоками: Усица, Бродюга, Тобыш, Мыла, Нонбург, Рудянка и Косма. Большую часть площади занимают заболоченные пространства и кустарники. Район богат крупными озерами – Ямозеро площадью 31,1 кв. км, представляющее собой остаточный озерноледниковый водоем; Большое (12,6 км (8,8 кв. км) и Малое (7,1 кв. км) Косминские озера; пойменное Большое Мыльское (8,8 кв. км). Болота занимают площадь 831,5 тыс. га |
Преобладают таежные еловые леса с примесью сосны и березы, граничащие на севере с лесотундрой. Лесистость 67,7% |
|
МР Ижемский |
Район расположен в западной части Печорской низменности; местность равнинная, сформированная под влиянием второго русского оледенения, лесистая, заболоченная, изрезана густой сетью рек |
Климат умеренноконтинентальный. Влажность воздуха составляет 80–83% в зимний период, в летний заметно снижается (до 50–55%). Среднегодовое количество осадков – 600 мм, по большей части в виде снега. Средние годовые скорости ветра 3–4 м/с |
Гидрографическую сеть района формируют реки: Сэбысь, Нырос, Черная Кедва и другие. Имеются десятки мелких озер. Болота занимают более 13% от площади района (228,9 тыс. га) |
Основная часть территории района находится в подзоне северной тайги и покрыта хвойными, преимущественно еловыми, лесами с примесью березы. Из лесных пород преобладают хвойные: ель и сосна. Лесистость 81,1% |
|
Источник: Атлас Республики Коми. М.: Феория, 2011. 294 с. |
||||
Таблица 2. Состояние оленеводческих хозяйств
Сплошное распространение мерзлоты практически не затрагивает районы и объекты перспективного освоения минеральных ресурсов. Однако наиболее уязвимыми и с технологической, и с природосберегающей точки зрения являются зоны островного и прерывистого распространения многолетнемерзлых пород, частично затрагивающих территории районов исследования. Именно здесь при сохранении тенденции изменения климатических процессов можно ожидать рост выбросов парниковых газов, особенно при осуществлении хозяйственной деятельности. Мы абсолютно согласны с мнением д-ра геогр. наук Г.Г. Осадчей, которая утверждает, что: «…на локальном уровне, то есть не участках производственной деятельности, экологическая ситуация может не совпадать с региональной (с районной дифференциацией). В российском природоохранном законодательстве отсутствуют ограничительные позиции, отражающие специфику криолитозоны, но на более низком законодательном уровне (например, региональном) это сделать возможно. Одними из первых шагов в этом направлении могут стать: усовершенствование существующей системы государственного мониторинга земель через четкое разграничение земель с многолетнемерзлыми породами и без них, разработку единой системы показателей состояния земель, т. е. выделить криолитозону в виде зоны с особыми условиями использования территории» [4].
Слабая устойчивость таежных и тундровых экосистем, низкая скорость самовосстановления определяют быстрое разрушение природных экосистем и длительное (в течение десятков лет) восстановление их структуры и функций. В связи с этим земли требуют особого подхода. Биологами Коми НЦ обосновано проведение работ, которые базируются не на концепции рекультивации земель, а на концепции природовосстановления, направлены не на возобновление почвенного плодородия, а на ускоренную реставрацию экосистем, выполняющих биосферные функции. На основании этой концепции разработана трехэтапная система практических приемов. На первом этапе, «интенсивном», в короткие сроки (3–5 лет) с применением базового приема – посева местных многолетних трав по фону органических и минеральных удобрений – формируется травянистая экосистема и биогенноаккумулятивный (новый плодородный) слой. В случае загрязнения нефтепродуктами на этом же этапе применяют микробиологиче- ские препараты, биосорбенты. Критерием завершения первой стадии является формирование травяного сообщества (общее покрытие растений не менее 70%). На втором этапе, «ассимиляционном», агрономический режим снимается, травянистое сообщество постепенно замещается лесной или тундровой экосистемой. Для тундр это ерник кустарничково-лишайниково-моховой на тундровых поверхностно-глеевых почвах. Третий этап предусматривает ежегодный мониторинг состояния восстанавливаемой экосистемы растительности и почв, гидрологического и термического режимов [5].
Учет экосистемных услуг в оценке негативного воздействия
В мире прорабатывается широкий круг вопросов, связанных с учетом экосистемных услуг (ЭУ), внедрением экосистемного подхода хозяйственного освоения территорий. Прежде всего, выявляются выгоды от их существования и разрабатываются механизмы для их сохранения [6–8].
Экосистемные услуги имеют специфику измерения и характеристик. В зависимости от назначения информации по ЭУ различают показатели по потоку и устойчивому спросу. Некоторые исследователи выдвигают на первый план спрос на ЭУ, в то время как другие акцентируют внимание на их потоке [9]. Это особенно актуально для малонаселенных территорий, где поток услуг огромен, а потребителей мало и ценность территории существенно не востребована. Спрос услуг зависит от доступности, собственности, статуса, образования потребителей этих услуг и политических амбиций государства и предприятий [10]. Наиболее дискуссионным является сбор данных количественных характеристик и методов экономической оценки услуг. Так, кроме статистических данных и данных ГИС в мире распространены способы сбора информации с помощью полевых обследований, опросов респондентов и анкет домохозяйств. Согласно инструментарию для оценки экосистемных услуг на основе сайтов (TESSA) выявляются спрос и поток ключевых услуг: хранение углерода, выбросы углекислого газа, метана и оксида азота, объемы воды, потребляемой населением, число дней без затопления территории и домохозяйств, объемы лесных и выращиваемых продуктов питания, продолжительность отдыха, проведенного на природе [11].
Встраивание в экономические процессы природопользования, главным образом для управления, происходит на основе компьютерного моделирования, картирования потока и спроса услуг, разработок сценарных подходов развития территории, внедрения платежей за их использование или ущерб от потерь [6; 8; 12]. Оценка ЭУ строится на разных принципах и методах – стоимостном, социальных предпочтений, продолжительности восстановления, возможности альтернативной замены и т. д. [9]. Ранее автор уже обращался к анализу мирового опыта в отношении методов оценки ЭУ (проведение экономической оценки, моделирование, картирование и разработка сценарных подходов) [13].
Российский опыт учета ЭУ в условиях техногенной нагрузки освоения территории имеет некоторые особенности. Так, сибирские исследователи утверждают, что в горнодобывающих проектах при оценке выгод от сохранения ЭУ важно учитывать фактор времени и оценивать возможный уровень восстановления нарушенных экосистем. Проект считается выгодным, если при прочих экономических эффектах от освоения минерально-сырьевых ресурсов происходит дополнительный учет выгод от сохранения и восстановления ЭУ [14]. Уральские ученые провели оценку ущерба от снижения экономической ценности природного потенциала территории в зоне промышленного освоения месторождений на Ямале. В качестве стоимостных показателей ущерба учитывались потери от изменения площадей пастбищ и средообразующих функций [15]. Существует ряд исследований по учету ЭУ в оценке ущерба, причиняемого природной среде [16; 17]. Предложено расширить состав стоимостной оценки при- родного капитала на территориях традиционного природопользования и включать в нее, наряду с оценкой биологической продуктивности территории, оценку ресурсов пресной воды, биоразнообразия, регулирующих экосистемных функций природного капитала [16].
В отношении лесных и водно-болотных экосистем особое внимание сосредотачивается на выполнении оценки по запасам углерода, ресурсам традиционного природопользования, осуществлению туризма и сохранению биоразнообразия. Впервые оценены услуги морских экосистем Камчатского края и прилежащих морей России по долгосрочному депонированию атмосферного углерода и его безвозвратному захоронению. Так, стоимость промышленного улавливания и захоронения СО2 в донных осадках составила 458,3 млн долл.; депонирование углерода в морском потоке растворенного органического вещества – 39516,7 млн долл.; депонирование СО2 наземными экосистемами – 75699,9 млн долл. [18]. Подобные исследования становятся актуальными в связи с утверждением закона об ограничении выбросов парниковых газов3. Согласно этому закону, с 2023 года предприятия, образующие в результате производственной деятельности более 150 тыс. т парниковых газов, могут использовать схемы торговли углеродными единицами, которыми обладают лесные и водно-болотные экосистемы.
Тем не менее, большинство отечественных инструментов территориального управления базируется на ресурсном подходе, направленном на получение дохода в краткосрочном периоде, зачастую без учета экосистемных услуг [19]. Значимость оценки ЭУ заключается не в том, чтобы ресурсы «продать» или получить компенсацию за их утрату. Стоимость ЭУ в денежном выражении является оценкой их выгод для общества, которые будут потеряны в случае их уничтожения [20]. Таким образом, измерение ценности экосистемных услуг может служить мощным инструментом для принятия сбалансированных решений.
Экономическая оценка экологического потенциала
Суть экономической оценки сводится к расчету ЭУ через произведение натуральных и стоимостных величин. Выбор ключевых услуг основывался на ранжировании по степени их значимости для социальноэкономического благополучия территории. Одной из важнейших функций северных территорий является хранение парниковых газов за счет мерзлоты. К сожалению, автор не имеет возможности оценить эту услугу, ценность которой значительно увеличила бы стоимостные показатели. Порядок расчета определяют методы и ключевые параметры, рассмотренные ранее в авторских публикациях [13; 17]. В расчетах участвуют регулирующие и продукционные услуги. Туристические услуги не вовлечены в оценку по причине явного различия мест потенциального освоения минеральных ресурсов и мест отдыха. Рекреация или традиционный вид природопользования местного населения: охота, рыбалка, сбор недревесных ресурсов – учтены при оценке категории продукционных услуг (табл. 3).
Расчеты стоимостной характеристики ценности ЭУ показали доминирование регулирующих услуг в общей оценке. Кроме Воркутинского района (10%), ценность продукционных услуг составляет менее 1% в общей стоимости услуг. Ситуация по районам различается. Среди функций наиболее значимой является поглощение загрязнений из атмосферы лесными экосистемами, ее доля составляет 70–80% от общей ценности, за исключение Ижемского района (27%). Для Воркутинского района наиболее весомые функции включают поглощение загрязнений из атмосферы; водоочистную способность болотных систем и сохранение биоразнообразия. Экологический потенциал Интинского района складывается в значительной степени за счет способности растительного покрова поглощать загрязнения из атмосферы (73%), увеличивать объем речного стока (10%) и предотвращать эрозию почвенного покрова (6%). На тер-
Таблица 3. Параметры для экономической оценки экосистемных услуг
|
Экосистемная услуга/функция |
Регламентирующие параметры оценки |
|
Регулирующие услуги |
|
|
Водорегулирование |
климатические (среднегодовые осадки, доля летних осадков); гидрологические (речной сток, подземный сток лесопокрытой территории, заболоченность территории); лесорастительные (бонитет, возраст, полнота лесных насаждений); стоимостные (ставки платы за использование подземных вод промышленными предприятиями по бассейну реки Печоры) |
|
Депонирование СО2 |
лесорастительные (доля хвойных насаждений, способность лесов поглощать углерод); стоимостные (мировая цена тонны СО2 по данным Киотского протокола) |
|
Водоочистная способность болот |
гидрологические (площадь болот, эффективность фильтрационной способности); стоимостные (стоимость очистных установок) |
|
Защита от эрозии почв |
лесорастительные (площадь хвойных лесов); стоимостные (цены на предполагаемые растительные культуры) |
|
Поддержание биоразнообразия |
экологические (число особо охраняемых таксонов, занесенных в Красную Книгу РФ, Республики Коми); стоимостные (экспертные величины затрат на восстановление таксона) |
|
Водоохранная функция лесов |
экологические (лесистость, площадь лесов); стоимостные (ставки платы за использование воды из поверхностных источников промышленными предприятиями по бассейну реки Печоры) |
|
Поглощение загрязнений из атмосферы (пыль, вредные вещества) |
экологические (удельная величина поглощения вредных веществ лесными экосистемами Республики Коми по проекту Лесного плана); стоимостные (нормативы платы за негативное воздействие на атмосферу пыли и взвешенных веществ РМ2,5, с учетом повышающего коэффициента на 2020 год) |
|
Продукционные услуги |
|
|
Выпас оленей |
экологические (поголовье оленей); стоимостные (цена от реализации мяса оленей) |
|
Вылов рыбы |
экологические (вылов рыбы домохозяйствами); стоимостные (цена гипотетической реализации рыбы за вычетом затрат на рыболовство) |
|
Сбор грибов и ягод |
экологические (объем сбора грибов и ягод домохозяйствами); стоимостные (цена гипотетической реализации продукции, с учетом затрат на сбор ресурсов) |
|
Обеспечение питьевой водой |
экологические (необходимый объем подачи воды для водоснабжения); стоимостные (оплата услуг водопользования для потребителей без затрат на подачу воды) |
|
Проведение охоты |
экологические (количество птиц и зверей во время проведения охоты); стоимостные (цена гипотетической реализации продукции, с учетом затрат на ее осуществление) |
|
Составлено по: [17; 21–26]. |
|
ритории Усть-Цилемского района наиболее ценные функции – поглощение загрязнения из атмосферы (68%) и поддержание уровня речного стока за счет таежной растительности (14%), а также способность болотных экосистем очищать поверхностные стоки воды (7%). Ижемский район, наиболее залесенный из всех районов исследования (доля лесов составляет более 80%), отличается до- минированием ценности формирования речного стока и поглощения загрязнений вредных веществ из атмосферы за счет растительности.
Дисконтирование – это процесс корректировки будущих экономических показателей с целью определения их современной стоимости. В экономической теории и практике затраты и выгоды, возникающие в бу- дущем, обладают меньшей стоимостью, чем затраты и выгоды, возникающие в настоящее время. В наших расчетах норма дисконта принята 10%; стоимостные показатели ценности регулирующих и продукционных услуг, их удельные величины на единицу площади представлены в табл. 4.
Результаты вычислений свидетельствуют о разнице стоимостных единиц удельных величин ценности экоуслуг по районам почти в 10 раз. Так, в тундровой зоне (Воркутинский район) этот показатель составил 39,4 тыс. руб. / га, по мере продвижения в зону притундровых лесов и редкостойной тайги он возрастает до 308,8 тыс. руб. / га (Ижемский район). Безусловно, это ориентировочные расчеты, которые могут быть скорректированы при проведении экологических обследований перспективных объектов добычи и переработки минеральных ресурсов.
Отличительной особенностью экономической оценки ЭУ выступает анализ спроса на них, т. е. кто заинтересован в сохранении экологического потенциала или является гипотетическим потребителем ЭУ. Местные жители, как и малый бизнес каждого района, заинтересованы в сохранении практически всех экоуслуг исключительно до тех пор, пока не будет введена плата за их использование или утрату. Природопользователи экономят средства на очистке загрязнений за счет разбавления и поглощения загрязнений от внешней техногенной среды (табл. 5).
Многие страны уже имеют многолетний опыт использования такого рода платежей [27]. Однако и здесь нет однозначных позиций. Наибольший эффект проявляется в случае среднесрочного периода их действия (10–30 лет) как части политических мер и с участием государственной финансовой поддержки [28]. Обратная ситуация связана с ложными ожиданиями социального благополучия [28]; слабой проработкой необходимой нормативно-правовой базы [29]; принуждением со стороны государственных органов власти или, наоборот, неучастия администрации, правоохранительных органов в проведении мероприятий по контролю со-
Таблица 4. Экономическая оценка экосистемных услуг
|
Район |
Экосистемные услуги, млн руб. |
Удельный показатель ценности услуг, тыс. руб. / га |
|
|
регулирующие |
продукционные |
||
|
МОГО Воркута |
20730,2 |
2888,3 |
39,4 |
|
МОГО Инта |
171042,0 |
2445,4 |
47,5 |
|
МР Усть-Цилемский |
405940,0 |
5957,8 |
100,8 |
|
МР Ижемский |
538185,6 |
3817,5 |
308,8 |
Рассчитано автором по данным 2020 года.
Таблица 5. Структура получателей выгод от использования экосистемных услуг
|
Получатели выгод |
Экосистемные услуги* |
||||||||||||
|
регулирующие |
продукционные |
||||||||||||
|
ВР |
Д |
ВО |
ЗЭ |
Б |
ВХ |
ПЗ |
ОЛ |
Р |
ЯГ |
ПВ |
О |
||
|
На территории региона |
Местные жители |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Природопользователи |
+ |
- |
- |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
+ |
|
|
Бизнес-структуры |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
Вне территории региона |
Мировое сообщество |
- |
+ |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Природопользователи |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
- |
- |
- |
- |
|
|
Бизнес-структуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
|
|
* ВР – водорегулирование, Д – депонирование углекислого газа, ВО – водоочистка, ЗЭ – защита почв от эрозии, Б – биоразнообразие, ВХ – водоохрана, ПЗ – поглощение загрязнений из атмосферы, ОЛ – выпас оленей, Р – вылов рыбы, ЯГ – сбор грибов и ягод, ПВ – обеспечение питьевой водой, О – охота. Источник: составлено автором. |
|||||||||||||
хранения ЭУ и т. д. [30; 31]. Также исследователи выдвигают следующее предположение: трудно предусмотреть, что произошло бы без внедрения оплаты ЭУ в силу процессов хоть долговременного, но самовосстановления экосистем.
Вне региона экоуслуги практически не востребованы, кроме функций депонирования углерода, сохранения биоразнообразия и ресурсов лесных и тундровых экосистем (оленеводства; сбора грибов и ягод). В настоящее время продажа или «выход на рынок» таких ресурсов гораздо ниже их фактический обеспеченности. Тем не менее их значимость для местного населения является первостепенной в силу необходимости для продуктового самообеспечения сельских домохозяйств. В сельской местности районов исследования уровень доходов населения очень низкий. Для того чтобы его увеличить, сельчане выращивают и содержат скот или птицу для последующей продажи, а выловленная рыба, дичь и грибо-ягодные ресурсы служат для жизнеобеспечения населения. Поэтому ни ценовой фактор, ни объемные характеристики не отражают важности ресурсов, в чем проявляется отличие от использования ресурсов жителями городов.
Дискуссия: для чего считаем?
Первая попытка официального учета оценки ЭУ в хозяйственной деятельности осуществлена в лесных планах. Согласно Типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации в него включен раздел оценки экологического потенциала территории, значимых экосистемных функций лесов: средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных. Так, Лесной план Республики Коми (2019 год) содержит информацию о натуральных и стоимостных показателях по оценке водоохранных (водорегулирование и предотвращение поверхностного стока); защитных (защита берегов рек, почв, полей и транспортных путей) и санитарно-гигиенических (обогащение кислородом, поглощение выбросов и пыли, выделение фитонцидов)
функций экосистем и только натуральном – бюджете углерода лесных экосистем4. Удельные стоимостные показатели и способы расчета общей стоимости отдельных ЭУ (например, выделение кислорода и фитонцидов) не конкретизированы.
На примере лесных планов десяти регионов (Свердловской, Иркутской, Томской, Кировской, Вологодской областей, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, республик Коми и Карелии) рассмотрено методическое и информационное разнообразие оценки ЭУ. При анализе выявлено отсутствие единообразия в их перечне, различие понимания содержательной части характеристики, использование нескольких методов для оценки одних и тех же услуг, что может привести к значительным расхождениям в оценке экологического потенциала. В силу многих причин, как объективных (нет специалистов и финансирования для натурных исследований крупных по площадям лесных территорий), так и субъективных (нет понимания необходимости данных знаний), на многих территориях отсутствуют исследования по прогнозу состояния ЭУ на период действия лесных планов до 2029 года. Названные недостатки могут быть устранены при принятии на ведомственном уровне общих принципов и правил, требований и методов оценки ЭУ.
Главная цель внедрения подобных расчетов заключается в том, чтобы природопользование не повлекло за собой негативных изменений экосистемам. Несмотря на наличие стоимостных значений ЭУ, они не вовлечены в расчеты эффективности лесопользования на территории региона. По своей сути эти показатели являются своего рода элементами кадастровой стоимости арендных участков для природопользователей. Как справедливо отмечено в Лесном плане, пока ни в природоохранном законодательстве, ни в справочных материалах нет таких понятий, как «экологическая услуга» или «плата за экологическую услугу», стоимостные показатели ЭУ не включены в комплекс кадастровой оценки. Следовательно, арендная плата складывается без учета сохранения и наличия этих функций.
В настоящее время назревает необходимость обеспечить нормативные документы кадастровой оценки земель учетом экосистемных функций с помощью единых методов современной оценки. Когда складывается ситуация, касающаяся перевода лесных земель в производственные, кадастровая оценка является важным фактором, особенно при консервации объектов.
Болотные экосистемы (торфяники), которые распространены на северных, в том числе арктических, территориях, наиболее уязвимы в силу содержания огромного количества (до 80% глобального запаса углерода) метана и углекислого газа [32]. Техногенная нагрузка может стимулировать процессы оттаивания мерзлоты, которые и вызовут выбросы метана и углекислого газа.
Реестр перспективных объектов освоения ресурсов включает фактически несколько объектов в каждом районе, что при условии их строительства и эксплуатации может повлечь кумулятивный эффект роста негативных экологических последствий, поэтому уже есть опыт анализа факторов накопления и естественного переноса и поглощения загрязнения (рассеивающей, разбавляющей, ассимиляционной способности экосистем), а также особенностей природно-климатических условий в связи с функционированием нескольких объектов [33].
Заключение
Первоочередные объекты освоения связаны с добычей бурых углей, известняков и доломитов, а также медной руды, расположенных в зоне тундровых лесов и редкостойной тайги.
Районы перспективного освоения различаются условиями природной среды. Тундровой зоне свойственны скудная растительность, не способная поглощать техногенные загрязнения, равнинный рельеф и высокая скорость ветра, за счет которых может происходить рассеивание производственных выбросов вредных веществ. Густая речная сеть характеризуется малыми объ- емами стока, вследствие чего не происходит разбавление поступающих со сточными водами загрязнений. Подземный горизонт и почвенный покров за счет ливневых стоков подвергаются негативным эффектам – попаданию тяжелых металлов и диоксинов, что уже фиксируется, а новое производство, безусловно, приведет к ухудшению этой ситуации.
Природные условия комплекса северной тайги гораздо лучше способствуют поглощению и разбавлению загрязнений за счет лесистости территории и водности крупных рек. При этом рассеивающая способность гораздо ниже, чем в тундре.
Результатом исследования стали расчеты ценности экологических услуг и анализ их потребления и выгод. Ее удельная величина в зависимости от размещения объектов по районам региона составила от 39,4 до 308,8 тыс. руб. / га. Ущербы от утраты экосистемных функций являются лишь гипотетической стоимостной величиной, которая не может быть предъявлена добывающим предприятиям в качестве платы за негативное воздействие. Тем не менее современные тенденции внедрения экосистемного подхода и тренд сокращения выбросов парниковых газов, подкрепленные международными и отечественными документами, призывают быть готовыми к значительным затратам на сохранение природной среды. Для успешного внедрения стоимостного учета экосистемных функций лесных экосистем в хозяйственную практику, начатого в 2018 году при формировании региональных лесных планов, следует разработать и принять на ведомственном уровне общее руководство с едиными требованиями и методами оценки.
Проблемы, связанные с оленеводческими угодьями, становятся самыми острыми во взаимоотношениях между производством и местными жителями Севера. Тающая мерзлота, хранение и поглощение парниковых газов лесными и водно-болотными экосистемами – это проблемы мирового уровня, которые с возникновением перспективных производств, безусловно, придется решать. Решение таких проблем начинается с нормативно-правовой документации, и уже есть позитивные перемены – законы о сокращении парниковых газов, типовые схемы лесных планов, учитывающих роль экологического потенциала, редакции документов в на- правлении стимулирования внедрения наилучших технологий. Включение ценности экологического потенциала в кадастровый учет стоимости земель станет следующим шагом на пути эффективного и природосберегающего природопользования.
Список литературы Экологический фактор перспективного освоения минеральных ресурсов северного региона
- Бурцев И.Н., Дмитриева Т.Е. Сырьевая база минерального строительного сырья Воркутинской опорной зоны Арктики // Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера - 2018: сб. ст. Шестой Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием). Сыктывкар, 2018. Ч. II. С. 18-23.
- Елсаков В.В. Анализ пространственной неоднородности изменений растительного покрова тундровой зоны Евразии по материалам съемки MODIS 2000-2016 гг. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: сб. ст. Пятнадцатой Всерос. открытой конф. М., 2017. С. 441.
- Крутских Н.В. Анализ зоны воздействия горнодобывающих предприятий с использованием геоинформационных технологий // География и природные ресурсы. 2021. № 1. С. 141-148. DOI: 10.15372/GIPR20210116
- Осадчая Г.Г., Дудников В.Ю., Быкова М.В. Мониторинг сохранности природных экосистем как информационная база экодиагностики регионального уровня (на примере криолитозоны Европейского Северо-Востока) // Современные проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на пространстве СНГ: сб. междунар. науч.-практ. конф., посв. 90-летию Рос. гос. гидромет. ун-та. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2020. С. 528-529.
- Экологические принципы природопользования и природовосстановления на Севере / ред. И.Б. Арчегова. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2009. 176 с.
- Учет и оценка экосистемных услуг (ЭУ). Опыт, особенно Германии и России / К. Груневальд [и др.]. Bonn: Bundesamt fur Naturschutz, 2014. URL: http://www.kulunda.eu/sites/default/files/BfN_Skript_373.pdf (дата обращения 07.08.2017).
- Costanza R., Groot R. Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? Ecosystem Services, 2017, vol. 28, pp. 1-16. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008 (accessed 03.10.2010).
- Экосистемные услуги России: прототип национального доклада. Т. 1. Услуги наземных экосистем / ред. Е.Н. Букварева, Д.Г. Замолодчиков. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2016.148 с.
- Берджесс Н., Дарра С., Найт С., Дэнкс Ф.С. Подходы к картированию экосистемных услуг. UNEP World Conservation Monitoring Centre, 2016. 68 с. URL: https://www.unep-wcmc.org/system/dataset_ file_fields/files/000/000/431/original/2560_Mapping_Eco_Services_Report_RU_WEB.pdf?1485866039 (дата обращения 12.11.2020).
- Geijzendorffer I.R., Roche P.K. The relevant scales of ecosystem services demand. Ecosystem Services, 2014, vol. 14, pp. 59-61.
- Peh K.S.-H. [et al.]. TESSA: A toolkit for rapid assessment of ecosystem services at sites of biodiversity conservation importance. Ecosystem Services, 2013, vol. 5, pp. 51-57. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.06.003
- Якубовский Е.В. Развитие системы экосистемных платежей в Республике Беларусь // Экон. бюл. НИЭИ Мин-ва экономики Республики Беларусь. 2019. № 1. С. 59-65.
- Тихонова Т.В. Современные методы оценки экосистемных услуг и потенциал их применения на практике // Изв. Коми НЦ. 2018. № 4 (36). С. 122-135. DOI: 10.19110/1994-5655-2018-4-122-135
- Мекуш Г.Е., Елгина Ю.М. Экономическая оценка ценности восстановления экосистемных услуг в угольных проектах: региональные аспекты // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Т. 7. № 12А. С.53-60.
- Экономическая оценка вреда, причиняемого арктическим экосистемам при освоении нефтегазовых ресурсов / М.Н. Игнатьева [и др.] // Экономика региона. 2014. № 1. С. 102-111.
- Попова И.М. Ресурсная оценка территории для определения убытков в сфере природопользования при реализации инвестиционных проектов // Недропользование XXI век. 2017. № 1 (64). C. 138-145.
- Тихонова Т.В. Проблемы оценки ущерба при принятии хозяйственных решений // Проблемы развития территории. 2020. № 2 (106). С. 95-107. DOI: 10.15838/ptd.2020.2.106.7
- Оценка природного капитала как инструмент регионального развития / Э.И. Ширков [и др.] // Проблемы развития территории. 2021. Т. 25. № 3. С. 72-88. DOI: 10.15838/ptd.2021.3.113.5
- Петров В.Н., Каткова Т.Е., Карвинен С. Тенденции развития лесной экономики в России и Финляндии // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 3. С. 140-157. DOI: 10.15838/esc.2019.3.63.9
- De Groot R. [et al.]. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem Services, 2012, vol. 1, рр. 50-61. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2012.07.005
- Касимов Д.В., Касимов В.Д. Некоторые подходы к оценке экосистемных функций (услуг) лесных насаждений в практике природопользования. М.: Мир науки, 2015. 91 с.
- Касимов Д.В., Пинаев В.Е. Теория и практика расчета и минимизации ущерба лесным ресурсам: редким видам растений, древесным и пищевым ресурсам, лекарственному сырью. М.: Мир науки, 2015. 95 с.
- Неклюдов И.А. Эколого-экономическая оценка водорегулирующей роли лесопокрытых водосборов Среднего Урала // Проблемы обеспечения развития современного общества: сб. тр. III междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: УрФУ, 2014. С. 199-208.
- Юрак В.В. Методические рекомендации по экономической оценке регулирующих и социальных экосистемных услуг. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2018. 55 с.
- Бобылев С.Н., Сидоренко В.Н., Лужецкая Н.В. Экономические основы сохранения водно-болотных угодий. М.: Wetlands International, 2001. 56 с.
- Максимов А.А. Концепция глубокой переработки продуктов оленеводства // Оценка ресурсной эффективности использования возобновимого природного капитала северного региона: монография. Сыктывкар: Коми республ. тип., 2021. 185 с.
- Ценность лесов. Плата за экосистемные услуги в условиях «зеленой» экономики / ООН. Женева, 2014. 94 с.
- Borner J., Baylis K., Corbera E., Ezzine-de-Blas D., Honey-Roses J., Persson M., Wunder S. The effectiveness of payments for environmental services. World Development, 2017, vol. 96, pp. 359-374. Available at: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.020
- Fauzi A., Zuzy A. The complexity of the institution of payment for environmental services: A case study of two Indonesian PES schemes. Ecosystem Services, 2013, vol. 6, pp. 54-63. Available at: https://doi.org/10.1016/jj.ecoser.2013.07.003
- Samii C. [et al.]. Effects of payment for environmental services (PES) on deforestation and poverty in low and middle income countries: A systematic revie. Campbell Systematic Reviews, 2014, vol. 10, pp. 1-95. Available at: https://doi.org/10.4073/csr.2014.11
- Suhardimana D., Wichelnsb D., Lestrelinc G., Hoanh Chu Thai. Payments for ecosystem services in Vietnam: Market incentives or government control of resources? Ecosystem Services, 2013, vol. 5, pp. 94-101. Available at: https://doi.org/10.1016/jj.ecoser.2013.06.001
- Hugelius G. [et al.]. Large stocks of peatland carbon and nitrogen are vulnerable to permafrost thaw. PNAS, 2020, vol. 117, no. 34, pp. 20438-20446. Available at: https://doi.org/10.1073/pnas.1916387117
- Бурматова О.П. Стратегические разработки в районе нового освоения // Актуальные проблемы экономики и права. 2018. Т. 12. № 2. С. 221-240. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.12.2018.2.221-240