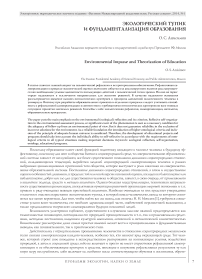Экологический тупик и фундаментализация образования
Автор: Анисимов Олег Сергеевич
Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online
Рубрика: Проблемы экологии, науки о земле
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится главный акцент на экологической рефлексии и ее критериальном обеспечении. Рефлексивная самоорганизация в процессе экологической оценки значимого события или анализируемого явления рассматривается как необходимое условие адекватности последующих действий с экологической точки зрения. Но оно не гарантирует надежности в исключении неправильных для экологии решений. В качестве надежного основания рассматривается введение высших онтологических критериев и принципа адекватной включенности человека в универсум. Поэтому при разработке образовательных проектов и отдельных программ следует учитывать способность к рефлексивной самоорганизации в соответствии с требованиями онтологических критериев во всех типовых ситуациях принятия значимых решений.
Экологическая рефлексия, самоорганизация, онтология, образовательные программы
Короткий адрес: https://sciup.org/14315560
IDR: 14315560
Текст научной статьи Экологический тупик и фундаментализация образования
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва
Environmental Impasse and Theorization of Education
O. S. Anisimov
The Russian Presid ential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow
В статье ставится главный акцент на экологической рефлексии и ее критериальном обеспечении. Рефлексивная самоорганизация в процессе экологической оценки значимого события или анализируемого явления рассматривается как необходимое условие адекватности последующих действий с экологической точки зрения. Но оно не гарантирует надежности в исключении неправильных для экологии решений. В качестве надежного основания рассматривается введение высших онтологических критериев и принципа адекватной включенности человека в универсум. Поэтому при разработке образовательных проектов и отдельных программ следует учитывать способность к рефлексивной самоорганизации в соответствии с требованиями онтологических критериев во всех типовых ситуациях принятия значимых решений. Ключевые слова: экологическая рефлексия, самоорганизация, онтология, образовательные программы.
The paper puts the main emphasis on the environmental (ecological) reflection and its criterion. Reflexive self-organization in the environmental assessment process, or significant event of the phenomenon is seen as a necessary condition for the adequacy of follow-up from an environmental point of view. But it does not guarantee reliability in the exclusion of incorrect solutions for the environment. As a reliable foundation the introduction of higher ontological criteria and inclusion of the principle of adequate human universe is considered. Therefore, the development of educational projects and programs should take into account the individual's ability to self-reflective in accordance with the requirements of ontological criteria in all typical situations making important decisions. Keywords: ecological reflection, self-organization, ontology, educational programs.
Поскольку образование имеет своей функцией подготовку входящего в «жизнь» человека к будущему эффективному, полезному для него и общества бытию в социоприродной среде, то совершенствование образовательной системы зависит от неслучайного, все более существенного понимания динамики социоприродных отношений, складывающихся тенденций, выработки моделей социоприродной самоорганизации человека в рамках выбранных цивилизационных притязаний того общества, которое выступает в роли заказчика на совершенствование образовательной системы. Постижение динамики социоприродных отношений, а затем и осуществление оценки особенностей динамики, в пределах той или иной версии оснований оценки, взглядов на благополучие или неблагополучие, добро или зло для существования человека и общества, зависит, в свою очередь, от применяемого в аналитике подхода, средств и методов аналитики. Однако большая индустриализация, техногенная направленность существования цивилизации, спекулятивная ориентация рыночной организации мировой экономики и т. п. привели к ряду очевидных выводов простейшей аналитики. Наиболее очевидным из них предстает утверждение о наличии и опасном нарастании экологического тупика, в который вошло человечество, выход из которого становится все менее вероятным. Для того, чтобы найти все же выход, как отмечал Н. Н. Моисеев [1], требуются совместные усилия всего человечества, его наиболее здравомыслящей части, озабоченной перспективой выживания, а также продолжением творческого самовыражения будущих поколений людей.
Возможность усмотрения глубокого, существенного в изучаемом массиве явлений предопределяется как талантливостью познающего, потенциалом его природной проницательности и т. п., так и применяемыми средствами, методами постижения, владением культурой мышления, логической и онтологической компетентностью. Внимательное рассмотрение даже самых простых явлений может вести к принципиальным и фундаментальным выводам, как познавательного, так и практического типа.
Действительно, с отрицательными проявлениями человечества в отношении социоприродных механизмов тесно связана самоорганизация каждого человека, особенно тех, кто наносит вред окружающей среде. Тот человек, который строит свое поведение в непосредственном реагировании на возникающие условия, воздействия природной, а затем и социальной среды либо не включает и просто не имеет стереотипов рефлексивной самоорганизации и ее обеспечивающие критерии и средства, вносящие в получение рефлексивных результатов ту или иную меру неслучайности, либо включает ее, особенно после соответствующего обучения и воспитания, обрете- ния общественно значимого сознания и самосознания, культурно и нравственно ориентированного самоопределения [2]. В одном случае нанесение вреда окружающей среде является максимально вероятным, конечно с учетом индивидуального генотипа, физиологического и психотипа, а в другом вероятность ненанесения вреда, самоотстранения от нанесения вреда максимальна. Поскольку любая популяция включает множество базисных и вторичных типов, то в ней всегда обнаружится наличие тех, кто склонен игнорировать значимость «вреда», если сам вред не достигает воздействующего на среду. Чаще всего такими являются склонные к потребительскому отношению в сочетании с эгоцентричностью, игнорирующие значимость всего встречаемого, если оно не предстает как предмет сиюминутной потребности. Этот тип людей не интересуется последствиями своих действий, в том числе отрицательными последствиями. Попытки обратить их внимание и скорректировать действия в направленности на устранение отрицательных последствий, на недопущение «ненужных» действий и т. п. вызывает у них удивление, субъективную неприязнь, обозление и т. п., трактовку «вмешательства» в индивидуальное свободное бытие, нарушение их «естественных прав».
Другой формой потребительского отношения к среде является поведение руководителя, а вторично и исполнителя в деятельностном мире. Источником такого отношения предстает сам механизм деятельности [3]. В его основе лежит реализация требований норм преобразования чего-либо с помощью соответствующих различию материала и целевого представления средств воздействия на материал. Цель вводится через оформление внешнего заказа на предмет индивидуального, общественного и технологического потребления. Само «технологическое» отношение к заказу, а затем к снабженческому обеспечению воспроизводства деятельности создает особое именно «деятельностно-потребительское» отношение к среде, вытесняющее любые соображения, касающиеся сохранения, воспроизводства среды, прежде всего — природной. Управленческая позиция предстает в мире деятельности именно как «технологическая», так как в основе принятия решений, проектирования деятельности лежит принцип совмещения содержания заказа и ресурсных возможностей, реальных и возможных, обеспечения реализации заказа [4]. Вне наличия заказов, как деятельностной формы фиксации потребностей «внешней» среды, общества, без наличия нужных материалов, средств преобразования деятельность невозможна. Сама необходимость воспроизводства средств, поиск эффективности их применения ведет к разработке все более мощных средств производства, что продемонстрировано ходом индустриализации, а более мощные средства стимулируют подбор все более разнообразных и больших масштабов материалов, берущихся как из природной, так и технической среды. Умощ-нение средственной базы и самого механизма деятельности, появление гигантских кооперативно-деятельностных систем лежит в основе техногенной цивилизации, эгоцентрично потребляющей природную среду, подчиняющей мир субъективных отношений требованиям технологических систем.
Особой формой потребительского отношения к среде выступает экономический мир. В его основе лежит сочетание особенностей деятельностного и «капиталистического» реагирования на общественный спрос [5]. Капиталистическое реагирование оформилось в парадигме «рыночного типа», в которой капиталист предстает, прежде всего, как покупатель и потребитель рабочей силы, этого источника прибавочной стоимости, прибыли, получению которой подчинено создание систем деятельности, вхождение в рыночное пространство, установление отношений к природной и социальной среде. Особенность капиталистического реагирования на общественный спрос состоит в том, что капиталист именно от себя лично выступает реагирующим, а не как представитель общества и берет на себя все риски за удовлетворение спроса. Но генеральным мотивом выступает именно прибыль, а не сам по себе спрос, удовлетворение внешних потребностей, преодоление деструкций и т. п. Все, что не ведет к прибыли капиталист рассматривает как незначимое и «вредное», «бесполезно» увеличивающее расходы и пр. Соображения, касающиеся сохранности, воспроизводства природной и социокультурной среды, в том числе и технологической среды, не являются для капиталиста существенными по самой сути и функции его бытия, что и отражается в механизме «бизнеса». Если капиталист начинает учитывать все типы сред как самозначимые, то это происходит либо временно, в пределах необходимости бизнеса, либо под давлением социокультурной среды, общества, при тех трансформациях его субъективного мира, которые возникают в воспитании, т. е. с выходом за рамки сущности «капиталистического бытия». Образцы выхода за эти рамки в период капиталистического становления в России связаны с удержанием нравственных основ старообрядчества и т. п. [6]. Однако это уже не «чистые», а деформированные формы динамики капиталистического бытия, описанные Марксом именно в «чистом виде» [7]. Тем самым, капиталистическое хозяйствование, в котором сам механизм деятельностных коопераций находится в подчиненном положении к эгоцентризму капиталиста, его устремленности к прибыли «любой ценой», в том числе с помощью конкуренции, противопоставления с другими капиталистами, а также за счет поглощения или разрушения конкурентов, усиливает масштабы и очевидность противопоставления самой окружающей среды. Тенденции сглаживания агрессивного отношения к среде обитания связаны либо с нахождением путей выгодного отхода от стереотипов игнорирования, либо за счет переноса активности в иные страны или территории, где можно избежать давление общества.
Следовательно, современное общество, являющееся предельно технологизированным и капитализированным, насыщенного факторами порождения экологических проблем. Сдерживающим фактором выступает влия- ние культуры, духовной сферы и соответствующих высшим основаниям механизмов образования, воспитания. Особую значимость поэтому приобретают разработки по линии «экологическая культура», совмещающие интересы культуры вообще и ее применения к сюжетам экологического типа [8]. Систематические разработки по теме «экологическая культура» стали проводиться с начала 90-х гг. под руководством С. Н. Глазачева. В поле особого исследовательского внимания была помещена проблема экологического самоопределения в практике, особенно в тех видах деятельности, где от принципа управления зависит направленность действий многих людей, усиленных современными механизмами индустрии, технической и социотехнической, а затем и в образовательном обеспечении практики, в механизме формирования экологически значимых установок и стереотипов, внутренней самоорганизации. Неслучайно, что разработки концепции экологической культуры имели акцентировку на концептуализацию экологической культуры и переход к высшим формам экологической самоорганизации и тематике экологической акмеологии [9]. Тем самым, глубина и сложность содержания базисных различений непосредственно вели к постановке все более сложных задач для работы педагога в тематическом поле экологии и экологической культуры, относящейся как к практике деятельности и социокультурных взаимодействий, так и к владению педагогом экологической культурой в ходе формирования способностей, соответствующих демонстрации экологической культуры в жизни и деятельности специалиста. В содержание профессиограмм стала вводится составляющая, характерная для экологического поведения в рамках экологической культуры личности специалиста [10].
Однако чем более высокие требования ставятся перед формирующим воздействием в образовательном процессе, тем более принципиальным становится выявление особенностей как того содержания способностей, которые следует формировать, так и тех механизмов, моделей, технологий педагогической деятельности, которые предопределяют успех формирующего результата. Еще в дореформенные годы в советской педагогике и педагогической психологии критически обсуждались базисные способности, которые должны быть обязательными результатами образовательного процесса. При сохранении парадигмы «знания — умения — навыки» (ЗУН) осуществлялись переакцентировки в пользу большей значимости рефлексивных, творческих способностей, в пользу увеличения значимости способности постановки и решения проблем и т. п. Возникали концепции и опыт формирования способностей к самоорганизации в проблемных ситуациях, к смещению в пользу принципа «третьего типа ориентировки» в формировании умственных действий и т. п. (В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин, А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев и др. ). В свою очередь в 60—80-е гг. быстрыми темпами росло проявление методологов, базисной ценностью которых являлась рефлексия действий, проблематизация, развитие деятельности и способностей (Ю. В. Громыко, А. П. Зинченко, В. М. Розин, Б. В. Сазонов, А. А. Тюков, Г. П. Щедровицкий, П. Г. Щедровицкий и др. ). Все более очевидным становилось понимание главенствующей роли рефлексии над действием, проблемати-зации над депроблематизацией, понимание предварительности значимости самих по себе знаний, умений, навыков и перспективность творческих, креативных составляющих комплекса способностей [11].
Когда появилась возможность на практике реализовать проектные идеи, касающиеся высшего образования, тем более относительно переподготовки управленческих кадров, имеющих в пространстве профессий приоритетное положение для интересов всего общества, когда было предложено реализовать идеи в рамках пилотного проекта управленческого образования с неограниченностью инновационной установки, в 1988 г., мы использовали свои наработки периода работы в НИИ проблем высшей школы и в рамках методологического сообщества, создав проектную версию учебной программы на созданной нами кафедре методологии и приступили к ее реализации [12]. Образовательные технологии опирались на опыт развивающих игр, подчиненных критериям методологии, ее средствам и методам. Это требовало существенных коррекций в способностях преподавателей, в том числе и тех, кто владел прежними игровыми технологиями и технологиями развивающего обучения.
Мы останавливаемся на опыте конца 80-х и начала 90-х гг. потому, что это стало этапом большой пробле-матизации механизма образования, моделей и технологий педагогической деятельности в контексте тех усилий, которые предпринимали методологи [13] и выхода за пределы осуществленного ими по ряду принципиальных показателей [14]. Предварительный анализ нашего опыта с участием С. Н. Глазачева в 1990 г. привел не только к согласию по основным выводам, но и к привлечению нас к работе творческой группы по созданию концепции, технологий и моделей экологического образования с 1994 г. В это время нашими приоритетами в экспериментальном поиске были как формирование рефлексивной способности, ключевого механизма в целостности самоорганизации специалиста и проходящего путь обучения и воспитания, так и способности к использованию базисной парадигмы языка теории деятельности, разработанной нами в 1979 г. Тем более, что учебная программа включала четыре типовые игры (недельные) цикла практико-ориентированной подготовки к профессиональной управленческой деятельности и четыре базисных теоретических дисциплины, дающих нужный понятийный инструментарий для критериально организованной рефлексии. Приоритетными для формирования способностей к управленческой рефлексии, мышлению и общению являлись критерии семиотического и логического типов. Несмотря на то, что еще в начале 80-х гг. мы осуществили, по инициации нашего коллеги В. С-Б. Бязырова, цикл разработок по онтологической тематике и оформили результаты в особом комплекте по теме
«нечто в универсуме» [15], онтологические критерии оставались в «тени». В то же время, мы владели специальным «методом работы с текстом» (МРТ), который применили к конструированию понятия «экология» по инициативе С. Н. Глазачева в 2001 г. [16]. Именно во время работы над понятием «экология», а также «экологическое мышление», «экологическое сознание», «экологическое самосознание» и т. п. мы доопределили общую ориентацию и особенности содержания экологической культуры.
Критерии культурного уровня обладают высшим уровнем абстрактности своего содержания. Осознание такого положения осуществлялось в течение длительного времени, хотя чувствительность к подобным положениям была изначальной. При всей устремленности к философским и, следовательно, онтологическим основаниям мы длительное время накапливали философский опыт и испытывали воздействия большого разнообразия утверждений высокой значимости, но чаще рядоположенных или слабо структурированных. Необходимый уровень совмещенности высокоабстрактных утверждений зависел чаще от индивидуальных усилий, способностей к синтезу и оформлению. Применение методов семантического синтеза облегчает достижение конечной цели, но сохраняет момент стихийности процесса. Решающую роль в придании синтезированию окончательного характера играло знакомство, освоение и технологическое оформление взглядов Гегеля, особенно касающихся его «абсолютного метода», осуществленное в 70-х гг. [17]. Дополнительное ускорение в осознании и оформлении высших содержаний предопределялось особенностями самой конструкции философской системы Гегеля, его учения о «развивающемся духе». В учении о духе Гегель раскрыл особенности этапов развития духа и, в том числе, особенности «абсолютного духа», соответствующего уровням «культурности» и «духовности». Оформляя эти взгляды и применяя логику псевдогенеза, «абсолютный метод» мы построили концепцию этапов развития типов бытия и соответствующего развития механизмов психики, ввели инструментальное выражение всего пути, которое назвали «субъективной пирамидой» [18].
Следовательно, если необходимо формирование экологической культуры, то прежде всего необходимо выращивать психические механизмы до культурного уровня «вообще», а затем и собственно внося «экологические» признаки культурности. Постигая специфику экологических признаков мы пришли к выводу, что в их основе лежит принцип «приоритета целого над частью», нарушение которого подготавливает отрицательные явления экологического типа. Действительно, если человек в ходе построения действия, преобразовательного воздействия вносит энергию и инерцию «разложения», уменьшения связанности компонентов, то он усиливает не только само «атомарное» бытие, но и вероятность полной автономизации, невключенности компонентов в тот или иной объект, вероятность «шлакообразования», засорения и внесения помех в бытие тех или иных объектов. Чем более активны компоненты в своем автономном бытии и эгоцентричны в своем усложнении за счет окружающей среды, тем больше проявляется эффект деформации «нормального» существования и среды, и объектных единиц в ней, нарушения законов воспроизводимого бытия систем и их «законного» усложнения, развития, прохождения циклов бытия. Это касается и природных, и социальных систем, а также и внутренние условия нарушения этих законов.
Тем самым, чтобы насытить «экологическую культуру» онтологическим содержанием и обоснованностью различий между «нормой» и «патологией» бытия, различий между экологически положительной и экологически отрицательной динамикой, чтобы выявить факторы сдвигов в отрицательную динамику и роль самоорганизации в стимулировании положительной или отрицательной динамики следует иметь высокий уровень онтологической образованности. Осознание данного момента было фактором согласованности в понимании путей формирования экологической культуры в творческом взаимодействии нас с С. Н. Глазачевым. Мы понимали, что мыслительная культура, нравственная культура и духовный потенциал являются в линии выхода их экологического и общечеловеческого кризиса не «желательным», а «обязательным» в высшем образовании [19]. Если учесть принцип приоритета целого над частью и универсализировать его содержание, то раскрываются особенности той самоорганизации человека, которая присуща духовному бытию [20].
Важно отметить, что если неизбежным является приложение сил для роста сознания в различных типах бытия, а решающую роль играет формирование сознания, самосознания, соответствующих требований культурного и духовного бытия, то следует перенастраивать приоритеты в основаниях конструирования образовательных систем. Все составные части должны быть иерархизированы, а стандарты культурного и духовного блока необходимо делать предопределяющими, преодолевая инерцию прагматических установок конструкторов и руководителей образовательных систем как системообразующих [21]. Прагматизация всей общественной жизни, деидеологизация, внедрение стандартов «рыночных принципов» и т. п., осуществленная с конца 80-х отбросило страну в сторону от прошлых достижений, не внеся той новизны, которая могла бы преодолевать недостатки советского периода. И в особых масштабах снижение коснулось образования, науки и культуры. Если же возвращаться к покинутым «вершинам» и идти дальше, выше в соответствии с цивилизационным зовом, то необходимо иметь ответы на вопросы о механизмах выращивания высших слоев психики, способностей культурно-духовной самоорганизации как условию адекватного следования экологической культуре. Тем более, что именно системное и ме-тасистемное, онтологическое звучание принципа приоритета целого над частью выступает как основание соблюдения требований экологической культуры. Само положение, раскрывающее формулу «нечто в универсуме», предстает как указание на рассмотрение человека именно как это «нечто», обладающее сознанием, самосознанием, рефлексивным, масштабными механизмами, включаемыми в реализацию миссии быть адекватным универсуму. Вне реализации такой миссии человек не может быть духовным и находящим решения, адекватные экологическим установкам.
Поскольку заказ на формирование и выращивание указанных способностей становится все более очевидным, то основные вопросы возникают по поводу именно педагогических технологий, образовательных механизмов, построения моделей успешной реализации заказов. Но это предполагает коренную перестройку и смену образовательной парадигмы, введение игромоделирования в качестве базисной формы в системе образования, так как в развивающих играх только и возможно полноценное и последовательное выращивание мощи основного субъективного механизма роста потенциала готовности к соответствию экологическим, экокультурным рамкам самовыражения специалиста и человека вообще [22]. Требуется нового типа «культурная революция», так как требуемый уровень развитости механизма самоорганизации предполагает способность корректно пользоваться, в достаточно сложных ситуациях, критериями культурного и духовного типа, в том числе положением о приоритете целого над частью, а целое рассматривается всех масштабов, в том числе «универсумальный». На этом пути и должна осуществляться перепарадигматизация в управлении сферой образования.
Список литературы Экологический тупик и фундаментализация образования
- Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. М., 1990; Судьба цивилизации. Путь разума. М., 1998.
- Анисимов О. С. Субъективная рефлексия в игромоделировании и ее понятийное обеспечение. М., 2012.
- Анисимов О. С. Введение в теорию деятельности. М., 2000.
- Анисимов О. С. Принятие управленческих решений: методология и технология. М., 2002.
- Анисимов О. С. Маркс: экономическая онтология, метод, мир деятельности. М., 2002.
- Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1990.
- Маркс К. Капитал. т. 1. М., 1978, т. 2. М., 1974.
- Глазачев С. Н. Экологическая культура и образование: очерки истории, теории и практики. М., 1997;
- Глазачев С.Н. Экологическая культура. Исследования и разработки экокультурной парадигмы. М., 1998
- Глазачев С. Н., Кашлев С. С., Марченко А. А. Экологическая культура учителя. М., 2004.
- Гагарин А. В., Глазачев С. Н. Проблемно-педагогическое поле экологической акмеологии//Вестник международной Академии наук (Русская секция), 2012, Специальный выпуск: Материалы Международной конференции «Экологическая культура в глобальном мире: модернизация российского образования в контексте международных стратегий»: 31-35.
- Глазачев С. Н., Перфилова О. Е. Экологическая компетентность: становление, проблемы, перспективы. Учебное пособие. М., 2008.
- Глазачев С. Н., Гришаева Ю. М., Косоножкин В. И. Модернизация технологий формирования экологической культуры студентов гуманитарного ВУЗа. М., 2013.
- Анисимов О. С. Педагогика мышления и методологизация образования. Рига., 1989.
- Анисимов О. С. Новые ценности обучения и методологизация образования. М., 1989.
- Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995.