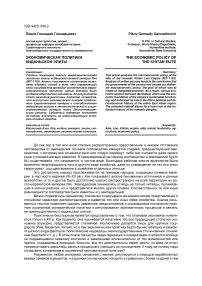Экономическая политика киданьской элиты
Автор: Пиков Геннадий Геннадьевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу макроэкономической политики элиты киданьской кочевой империи Ляо (907-1125). Анализ письменных источников позволяет сделать вывод о том, что управляющий класс государства проводил сознательную макроэкономическую политику, целью которой было создание комплексной экономики. Ее результатом стало развитие различных отраслей хозяйства, что выступило экономической основой стабильного существования империи и способствовало повышению ее роли в этнополитической и социо-экономической истории всего Восточноазиатского региона. Собранный материал позволяет по-новому взглянуть на цивилизационную историю кочевых народов.
Восточная азия, ляо, кидани, империя, элита, скотоводство, земледелие, экономическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/14940829
IDR: 14940829 | УДК: 94(5):338.2
Текст научной статьи Экономическая политика киданьской элиты
До сих пор в той или иной степени распространено представление о некоем отставании скотоводства от земледелия. Кочевое скотоводство именуется стадией, предшествующей земледелию, к которому все кочевники рано или поздно перейдут, либо оно считается даже своего рода тупиковой ветвью развития. В средневековый же период скотоводство и земледелие будто бы существовали, что называется, в чистом виде. Благодаря работам многих археологов была выявлена неоднородность того и другого вида хозяйства, даже их совмещение на тех или иных территориях, сосуществование в хозяйстве отдельных этносов.
Это достаточно хорошо прослеживается на примере народов, создавших кочевые империи, в частности киданей (III–XII вв.). Как показывают анализ письменных источников и данные археологии, и то и другое было достаточно широко распространено на всей территории их восточноазиатской империи Ляо. Земледелием занимались отнюдь не только китайцы, проживавшие в южных районах, но и представители многих других племен. Соответственно, те или иные разновидности скотоводства были известны и у земледельцев.
Можно подвергнуть серьезному сомнению и кажущееся аксиоматическим представление о стихийном характере распространения и развития тех или иных сфер хозяйства. Анализ письменных текстов позволяет сделать уверенное предположение о сложившейся постепенно практике осознанной экономической политики и регулировании экономических процессов и связать ее преимущественно с киданьской элитой.
Практически бесспорным является представление о том, что плановая экономика появляется только в XX в. Как правило, она оценивается негативно. Во все предыдущие столетия экономика априорно представляется стихийной. Исключение делается лишь для крупных государств (Рим, Византия, Китай), но и там экономическая политика будто бы нестабильна и зависит от разного рода факторов (политические неурядицы, межгосударственные столкновения, стихийные бедствия и т. д.). В этом плане процессы седентаризации и номадизации считаются вообще не поддающимися никакому контролю и зависящими исключительно от тех возможностей или препон, создаваемых природой. Конечно, все это действительно имеет место, но вряд ли стоит преувеличивать масштабы данных процессов и упрощать их последствия. К тому же почему надо отказывать кочевникам в осознанной экономической политике?
Разумеется, любая экономика, связанная с землей, регулируется с помощью выработанных веками приемов и рецептов, и в данном случае можно говорить в сравнении с более поздней и тем более современной эпохой лишь об элементах планирования, и, как правило, в форме стратегии. Это не командно-мобилизационная система периода социализма. И все же в экономике цивилизаций, как и в культурно-идеологической сфере, не может существовать абсолютной стихийности, а наличие имперской структуры прямо требует осознанного отношения ко всем сферам жизни.
Поскольку непосредственным производством занимаются сами скотоводы и представители знати, сложными остаются вопросы регулирования экономических процессов и планирования. На региональном уровне этим успешно занимаются аристократы. Однако одной из особенностей скотоводческого хозяйства является необходимость существования и использования обширного пространства, включающего в себя ряд регионов, и это означает, что вопросами мета-региональной (общегосударственной) экономики должны заниматься особые слои общества, т. е. элита. Подобного рода деятельность априори подразумевает разработку особой политики. Элита должна не только решать возникающие проблемы, но и заниматься экономическим прогнозированием, выработкой как кратко-, так и средне- и долгосрочных экономических проектов, увязывать их с политическими процессами внутри страны и за их пределами.
К этому киданьский этнос подталкивала вся его история. Традиционно считается, что до образования государства кидани были настоящими кочевыми скотоводами, а развитием земледелия и ремесел они обязаны исключительно китайцам. Эта точка зрения представлена не только в «Цидань го чжи» («История государства киданей») и «Ляо ши» («История династии Ляо»), основных источниках по их истории [1], но и в более ранних китайских исторических и географических текстах, - словом, сформулирована именно китайцами. Однако внимательный анализ их додинастийной истории позволяет увидеть более сложную ситуацию.
История киданей начинается с того, что они оказались одним из осколков разбитого сянь-бийского племенного союза. Они не были истреблены полностью и явно не подверглись серьезной ассимиляции со стороны более крупных соседей, но потеряли свою землю и превратились в «перекати-поле», каковых было много в первые века нашей эры. Мы не знаем, какого рода хозяйство они вели до этой катастрофы и было ли у них в той или иной форме земледелие, существовали ли ремесла, но теперь они были лишены даже малейшей возможности все это развивать и по этой причине вынуждены были перемещаться по всей степи со стадами животных, пригодных для подобного рода странствий. Разумеется, это можно назвать кочевым скотоводством, но нет никаких оснований делать из этого вывод о том, что кидани вообще не знали земледелия. Кидани никуда не ушли из этой зоны, никуда не переселялись и никого не завоевывали. Они были для этого слишком слабыми и, терпя неоднократные поражения от племен, не желавших уступать им ни пяди своей земли, вынуждены были убегать подальше или подчиняться. И здесь любопытно, что, как только им удавалось задержаться на какой-то территории сколько-нибудь долго, у них сразу появлялись «начатки земледелия и ремесел» [2, с. 20]. За это время они значительно обогатили свою культуру, но перейти к какой-то определенной системе хозяйствования сначала не успевали, а потом, видимо, уже и не хотели. Они все чаще выступали в качестве своего рода наемных отрядов и участвовали в многочисленных сражениях, приобретая огромный боевой опыт и развивая навыки урегулирования разного рода споров, которые особенно пригодились им в период империи. Вероятно, теряя за эти столетия навыки хозяйствования, они приобретали и развивали искусство управления, что в итоге и обеспечило им статус этноса-элиты. Разумеется, это не означает, что земледельческие или ремесленные навыки были утрачены совсем. В составе их племен находились семьи и даже роды, в хозяйстве которых земледелие было достаточно заметно.
На территории тюрко-монгольского мира в I тысячелетии до н. э. - первой половине II тысячелетия н. э. можно фиксировать своеобразную аграрную революцию. Начало ее связано с формированием империи Хунну, которая резко стимулировала широкое распространение скотоводства на кочевом севере Восточной Азии. Это не переход к производящей экономике, который в свое время тоже носил революционный характер, а революция в развитии самого аграрного хозяйства. «Поскольку природные условия местности и климат во вселенной различаются по своим условиям, живущие в различных местах люди действуют как им удобнее» [3, с. 102].
Именно время существования трех великих кочевых империй (Ляо, Цзинь, Юань) знаменует начало второй стадии аграрной революции, когда происходит интенсификация аграрного производства , нашедшая отражение в переходе к комплексной экономике, где скотоводство (на юге и в Европе - земледелие) было системообразующей, но не единственной составляющей. Устанавливаются более сложные и устойчивые связи между разными видами хозяйства, складывается сложное общественное разделение труда. В итоге начинают формироваться первые предпосылки перехода к индустриальной экономике.
На этой стадии, именно в силу усложнения экономической и социальной жизни (именно экономика и социальная жизнь, а не этнические процессы постепенно выходят на первый план), появляется необходимость искусственного регулирования. Это порождает переход к имперским конструкциям и широкое распространение городов. Происходит своего рода городская революция. Город еще не является основным производителем, он главным образом исполняет роль регулятора разных процессов. В Ляо мы наблюдаем первое проявление этой городской революции, когда по всей территории империи широко распространяются большие и маленькие города.
Оседание на землю не следует понимать в традиционном для земледельческих государств смысле как переход к земледелию. На деле это своеобразное закрепление определенной территории за тем или иным этносом. В хозяйственном отношении территория империи состояла из разных зон, прежде всего трех категорий:
-
1) зона преобладания земледелия, часто сочетаемого, хотя это и не обязательно, с городом и торговлей;
-
2) зона преобладания или даже абсолютного доминирования скотоводства;
-
3) зона сложного сочетания двух основных видов аграрного производства, т. е. производства, связанного с преимущественным использованием именно земли.
Киданьская политика, прежде всего экономическая, представляется глубоко продуманной, взвешенной и объективной.
Они учитывали главный фактор, который определял всю стратегию, – эта территория малопригодна для земледелия. Даже в наше время в принципе не ставится задача превратить эти пастбища в поля, тогда же это была бы задача просто неосуществимая. Понадобились бы столетия сложной и трудоемкой аккультурации. Да и не нужно было кочевникам широкое распространение земледелия. Их собственное скотоводческо-комплексное хозяйство было почти самодостаточным, насколько вообще самодостаточным может быть любое средневековое хозяйство.
Кидани сознательно стержнем экономики империи сделали именно скотоводство, альтернативы которому просто не могло быть в этой зоне. Опасным было широкое распространение здесь земледелия и городов [4, р. 70; 5, с. 129; 6, с. 7]. Дело, разумеется, не в том, что в степи не хватало камня и дерева, пригодного для градостроительства по южному образцу, – здесь был не нужен и опасен «южный город» с его неизбежной торгово-ремесленной и сельской инфраструктурой. По этой причине кидани поощряли создание небольших городков, крепостей, караулов, почтовых станций и т. п. Они не без основания считали китайское поощрение градостроительства в степи формой экспансии. В то же время кидани четко видели неспособность скотоводческой экономики решить все проблемы и стимулировали развитие торговли, как внутренней, так и внешней, хотя тоже до известных пределов. Они не могли допустить экономического преобладания торгово-ремесленной сферы.
Кидани, создав империю, направили вектор экономической активности на юг, но не было еще возможности участвовать в экономических процессах в качестве равноправной стороны. К тому же они практически перекрыли китайцам пути на север и запад, что требовало от китайцев новой экономической политики. Кидани «помогали» им своими военными действиями и дипломатическими акциями.
В экономической политике киданей можно выделить два вектора. Поскольку основой экономики Ляо было скотоводство, то ее элита пошла на вертикальную интеграцию. Постепенно принимается ряд мер, в соответствии с которыми под централизованный контроль правительства так или иначе попадает максимальное количество производственных процессов. Становится возможным оперативно решать проблемы взаимоотношений различных родов и племен. Можно сказать, что таким образом кидани стали меньше зависеть от произвола рынка того времени. В этом плане можно подумать о том, что традиционные вассально-ленные отношения, помимо прочего, и есть проявление этой вертикальной интеграции, средство поставить под контроль склонные к хаотичности экономические процессы.
В меньшей степени они могли влиять на экономические взаимоотношения империи с окружающими странами, но и здесь можно увидеть осознанность поведения элиты, которая стремилась к экономической и культурной, а не территориальной (!) экспансии, насколько это позволяли ресурсы государства и интересы кочевого сектора, хотя, разумеется, учитывались и экономические процессы на юге страны. Налицо сознательная политика экономической экспансии.
В итоге можно говорить, что кидани фактически придерживались экономической политики, суть которой можно выразить формулой «одно государство, две экономики». Такая ситуация немыслима в оседлых земледельческих и торговых цивилизациях и потому кажется случайной, но она во многом носила искусственный характер и довольно четко регулировалась киданьской элитой. Собственно киданьские земли были своего рода константой некоего трансформера, а остальные части, прежде всего юг и восток, регулировались в зависимости от этнополитической ситуации или экономических проблем [7, с. 127–135].
В условиях ограниченности территории экономика в принципе не может быть моноцентричной, т. е. чисто земледельческой или чисто скотоводческой. В реальности идет формирование и развитие комплексной экономики. Особенно активно этот процесс происходит в период существования сложной этатической конструкции, в данном случае имперской.
Ссылки:
-
1. Е Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи) / пер. с кит., введ., коммент. и прил. В.С. Таскина. М., 1979. 607 с. ; Wittfogel K.-A., Feng Chia-sheng. History of Chinese Society Liao (907–1125) // Transactions of the American Philosophical Society. New Series. 1949. Vol. 36. 752 p.
-
2. Думан Л.И. К истории государств Тоба Вэй и Ляо и их связей с Китаем // Ученые записки Института востоковедения. Т. XI. М., 1955.
-
3. Таскин В.С. Походные лагеря киданьских императоров // Китай: общество и государство : сб. ст. М., 1973.
-
4. Sechin J. The Kitans and their cities // Central Asiatic Journal. 1981. Vol. XXV, no. 1–2.
-
5. Ивлиев А.Л. Городища киданей // Материалы по древней и средневековой археологии юга Дальнего Востока СССР и смежных территорий. Владивосток, 1983.
-
6. Ивлиев А.Л. Хозяйство и материальная культура киданей времени империи Ляо : автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1988.
-
7. Пиков Г.Г. Некоторые вопросы экономики западных киданей // Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980. 152 с.
Список литературы Экономическая политика киданьской элиты
- Е Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи)/пер. с кит., введ., коммент. и прил. В.С. Таскина. М., 1979. 607 с.
- Wittfogel K.-A., Feng Chia-sheng. History of Chinese Society Liao (907-1125)//Transactions of the American Philosophical Society. New Series. 1949. Vol. 36. 752 p.
- Думан Л.И. К истории государств Тоба Вэй и Ляо и их связей с Китаем//Ученые записки Института востоковедения. Т. XI. М., 1955.
- Таскин В.С. Походные лагеря киданьских императоров//Китай: общество и государство: сб. ст. М., 1973.
- Sechin J. The Kitans and their cities//Central Asiatic Journal. 1981. Vol. XXV, no. 1-2.
- Ивлиев А.Л. Городища киданей//Материалы по древней и средневековой археологии юга Дальнего Востока СССР и смежных территорий. Владивосток, 1983.
- Ивлиев А.Л. Хозяйство и материальная культура киданей времени империи Ляо: автореф. дис.. канд. ист. наук. Новосибирск, 1988.
- Пиков Г.Г. Некоторые вопросы экономики западных киданей//Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980. 152 с.