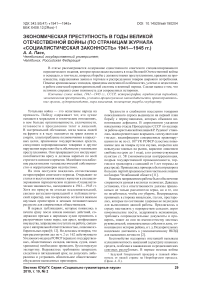Экономическая преступность в годы Великой Отечественной войны (по страницам журнала "Социалистическая законность" 1941-1945 гг.)
Бесплатный доступ
В статье рассматривается содержание единственного советского специализированного периодического издания, которое продолжало выходить в годы Великой Отечественной войны и освещало, в том числе, вопросы борьбы с должностными преступлениями, кражами на производстве, нарушениями закона в торговле и распределении товаров широкого потребления. Помимо криминальных эпизодов, приведены сведения об особенностях, успехах и недостатках в работе советской правоохранительной системы в военный период. Сделан вывод о том, что источник сохранил свою значимость для современных историков.
Война, 1941-1945 гг., ссср, историография, юридическая периодика, экономическая преступность, уголовно-процессуальное законодательство, правоохранительные органы, судопроизводство, мера наказания, возмещение ущерба государству
Короткий адрес: https://sciup.org/147233357
IDR: 147233357 | УДК: 343.50(47) | DOI: 10.14529/ssh190204
Текст научной статьи Экономическая преступность в годы Великой Отечественной войны (по страницам журнала "Социалистическая законность" 1941-1945 гг.)
Тотальная война — это испытание народа на прочность. Победу одерживает тот, кто лучше оснащен в моральном и техническом отношениях, в ком больше организованности, сплоченности, готовности к преодолению тягот и лишений. В экстремальной обстановке, когда массы людей на фронте и в тылу находятся на грани жизни и смерти, злоупотребление полномочиями в корыстных целях, присвоение государственных средств, спекуляция нормированными товарами и другие нарушения перестают быть обычными уголовными преступлениями. Они превращаются в инструмент пособничества врагу и должны караться по всей строгости военного времени. Малейшее послабление расхитителям «социалистической собственности» и коррупционерам недопустимо.
На этом постулате зиждилась отечественная историография советского периода. Открывают ее статьи и выступления видных юристов в специализированном периодическом издании «Социалистическая законность», выходившем в 1941—1945 гг. Хотя им присущ не столько исследовательский, сколько актуально-прикладной и публицистический характер, они по-прежнему остаются важным научным ориентиром и ценным познавательным ресурсом для современных обществоведов.
В первых публикациях, которые появились в печати сразу после начала военных действий, содержался призыв к народным судам применять к растратчикам такие меры, как арест, конфискация имущества, запрещение поступать на работу, связанную с материальной ответственностью, лишение избирательных прав [6; 12]. Но делалась оговорка, что при рассмотрении дел по ч. 2 ст. 162 действующего Уголовного кодекса РСФСР (кража из государственных, общественных складов, вагонов, судов, иных хранилищ) необходимо проводить бухгалтерскую экспертизу. Выражалось требование завершать следствие в пятидневный срок, не допускать либерализма и устраивать обязательное общественное обсуждение вынесенных приговоров.
Трудности в снабжении населения товарами повседневного спроса выдвинули на первый план борьбу с перекупщиками, которых объявили виновниками дефицита. В директивном указании начальника отдела Прокуратуры СССР по надзору за рабоче-крестьянской милицией Р. Руденко1 ставилась задача решительно вскрывать «спекулянтские гнезда», квалифицируя совершенные правонарушения по не по ст. 107 УК РСФСР (злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок, караемое лишением свободы на срок до 1 года), а по соответствующим пунктам ст. 58 (экономическая контрреволюция, подрыв государственной промышленности, торговли и транспорта с санкцией от 5 лет тюрьмы до расстрела). Приводились примеры сбыта втридорога больших партий продовольствия частными лицами на базарах Челябинской области [11].
Важным направлением работы было обеспечение сохранности урожая в колхозах и совхозах. Давалась установка, что к ответственности должны привлекаться не только расхитители зерна, но и те, кто не позаботился, чтобы его уберечь. Воспрещалось принимать в сторожа инвалидов, глухих, престарелых, которые по состоянию здоровья не подходили для выполнения данной работы. Предлагалось в страду выставлять у перекрестков сельских дорог комсомольские посты, задерживать незнакомцев, требовать сопроводительные документы и проверять, знают ли они по имени-отчеству местных руководителей, знаменательные события и даты, относящиеся к истории района, и т. д. Подозрительных надлежало доставлять к уполномоченному НКВД для выяснения личности [2].
Беспокойство надзорных инстанций вызывала излишняя мягкость наказаний за растрату казенных средств, особенно в закавказских и среднеазиатских союзных республиках. В первые месяцы войны виновных приговаривали к исправительно-трудовым работам, без возмещения нанесенного ущерба. Но даже эти вердикты суда обжаловались осужденными, тогда как кассационных протестов от прокуратуры не поступало. Преодолению подобной «односторонности» должны были способствовать органы юстиции. Несправедливые приговоры следовало пересматривать и исправлять [4; 17].
В приспособлении к условиям войны нуждался закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной (социалистической) собственности», принятый Центральным исполнительным комитетом и Советом Народных Комиссаров СССР 7 августа 1932 г. Профессор Всесоюзного заочного юридического института М. Исаев считал, что если ранее к признакам, позволяющим применять к расхитителям длительные сроки заключения, конфискацию имущества и смертную казнь, относились крупные размеры похищенного, сговор и систематичность противоправных деяний, то теперь использование данной нормы признавалось оправданным при растрате свыше 10 тыс. руб.; неоднократности совершаемых краж; и в ситуации, когда объектом преступных посягательств являлись перевозки грузов на транспорте. Подтверждалась правомерность высшей меры наказания для организаторов и попустителей воровства у государства [9].
Продвижение неприятеля вглубь страны ставило власти перед необходимостью проводить эвакуацию промышленных предприятий, учреждений, банков, складов, и т. д. Поспешность, с которой осуществлялась передислокация значительных объемов материальных и финансовых ресурсов, затрудняла учет. Для нечистых на руку лиц открывалась возможность их разбазаривания или присвоения в пути следования. Анализу проблемы посвящена статья Л. Мальцева [10].
При обнаружении у эвакуированных граждан крупных денежных сумм или партий товаров, которые очевидно не могли быть получены легальным способом, предписывалось производить тщательное расследование: устанавливать личность задержанного, источники его дохода, местонахождение родственников и сослуживцев для проверки изложенной версии приобретения ценностей. На квартире провести обыск, допросить соседей о бытовом поведении и связях подозреваемого. Если последний утверждал, что получил имущество при бесплатной раздаче из магазинов ввиду угрозы приближения врага, поинтересоваться у других приезжих из этого населенного пункта, сотрудников местных Советов и милиции (в случае, когда данный район не подвергался оккупации, либо уже освобожден частями Красной Армии), был ли в действительности такой прецедент. Обращения в прокуратуру трудящихся, не получивших зарплаты перед эвакуацией, сообщения областных управлений торговли, кооперации, банковских контор о фактах хищений также могли помочь в выявлении преступлений этой категории.
Внимание компетентных органов обращалось на эвакобазы, где накапливались прибывшие грузы. Предлагалось выборочно сверять приемо-сдаточные акты железной дороги или воднотранспортного участка с инвентаризационной описью пункта хранения. Особому контролю подлежал отпуск на сторону бездокументарных ценностей с участием весовщиков, охранников товарных дворов, смотрителей пакгаузов.
Удобным объектом злоупотреблений являлся скот, который перегоняли из прифронтовой полосы в тыл. Как правило, для сокрытия его убыли, оформлялись фиктивные акты о падеже поголовья из-за болезней или бескормицы. Они подписывались подкупленными председателями сельсоветов или колхозов, расположенных по маршруту движения. На самом деле часть животных забивалась на мясо, которое реализовывалось на рынках, либо продавалось тем же колхозам. Здесь установлению истины способствовал детальный опрос пастухов, гуртовщиков, крестьян, наблюдавших за перегоном и теми, кто его осуществлял. Пьянки, кутежи, приобретение дорогих вещей лицами, сопровождавшими стадо, служили подтверждением совершенного правонарушения.
Отдельно были рассмотрены преступления в сфере нормированного снабжения. Иногда бракованные продовольственные карточки с незначительными дефектами умышленно выбрасывались в мусорные баки рядом с типографией. «Случайные» прохожие их подбирали и пускали в продажу. Нередко талоны, отрезанные при получении продуктов, не утилизировались, как положено, а повторно использовались работниками прилавка в других торговых точках. Управдомы не гнушались предоставлять завышенные сведения о количестве жильцов в доме и получали паек на «мертвые» души. Надежным средством против этого служил повседневный контроль за деятельностью карточных бюро, распределительных пунктов и ЖЭКов.
Изучению причин хищений на железнодорожном транспорте посвящены заметки военюриста 2-го ранга А. Егорова [7; 8]. К наиболее серьезным относились: 1) слабая охрана грузов на перевалочных операциях; 2) длительные стоянки поездов; 3) использование неопломбированных вагонов и открытых платформ; 4) неправильная адресация перевозок из-за халатности кондукторов и отсутствия сопроводительных документов; 5) медлительность ведомственного механизма фиксирования недостач; 6) легкость проникновения посторонних на станции; 7) отсутствие информации у войск НКВД о скором подходе товарных эшелонов. Кроме того, отмечалось, что представители военной прокуратуры редко проводили осмотр места совершения хищений, и это обстоятельство в дальнейшем осложняло расследование. Зачастую к возбужденным делам не приобщались коммерческие акты, удостоверяющие получателя отправления, сам факт кражи и величину убытков.
В качестве иллюстрации приводился пример с разоблачением группы воров, орудовавшей на Южно-Уральской железной дороге, на счету которой было 27 крупных афер. В нее входили 2 дежурных диспетчера, 8 машинистов, 5 составителей поездов. Пользуясь служебными пропусками, они цепляли выбранные вагоны к маневровому паровозу, отво- дили их в тупики, откуда потом ценное содержимое растаскивалось по схронам. Только после того, как один из членов шайки на глазах у часового слил из цистерны два ведра подсолнечного масла, его задержали и препроводили в линейный отдел. Через него вышли на остальных подельников.
Проблемные моменты в судопроизводстве военной поры обозначил нарком юстиции РСФСР К. Горшенин [5]. Он призвал суды решительнее бороться с теми, кто уклонялся от уплаты налогов, ответственнее относиться к проведению подготовительных заседаний, чтобы полностью исключить несправедливые приговоры, добиваться исполнения всех судебных решений по возмещению ущерба, нанесенного государству хищениями и растратами. Беспокойство вызывал рост должностных преступлений в деревне, где к руководству сельхозартелями пришло много новых работников, в том числе женщин, не обладавших достаточным опытом. Им надо было помочь разобраться в правовых нормах, регламентировавших сельскохозяйственное производство, и не допустить нарушений по незнанию или неосторожности. Попутно отмечалось, что по данным на 1 января 1942 г. некоторые народные судьи ранее вообще не работали в юриспруденции и не имели соответствующей подготовки, а значительная часть окончила лишь краткосрочные курсы. Это негативно сказывалось на выполнении поставленных задач.
Критическим настроем отличался материал И. Сапожникова о пассивности прокуратуры в борьбе за соблюдение установленного десятидневного срока рассмотрения дел в отношении расхитителей социалистической собственности [13]. Нарекания вызывало редкое участие гособвинителей в судебных слушаниях, протоколы которых должным образом не проверялись и процессуальные упущения вовремя не фиксировались. В результате от трети до половины приговоров отменялось вышестоящими инстанциями по кассационным жалобам осужденных. В 40 % случаев наказание не было связано с лишением свободы.
Редакционная передовица под названием «Решительно устранить недостатки в борьбе с хищениями» [15] также предъявляла претензии в адрес надзорного ведомства за терпимость к бездеятельности контрольно-ревизионных органов различных «торгов и снабов». Кроме того, никто не занимался вопросом соблюдения правил клеймения весов и мерительных приборов. А ведь именно недоброкачественность весового хозяйства привыкли использовать мошенники для обмана потребителей.
Недосмотром являлось неналожение ареста на имущество тех, чья вина была доказана. В Челябинской области конфискации нажитого преступным путем удавалось избегать двум третям жуликов, а все оттого, что опись проводилась не сразу (не хватало судебных исполнителей), и вещи успевали распродать. Поэтому поданные гражданские иски оставались без уд овлетворения1.
Порицалась снисходительность к начальникам, расходовавшим продовольственные и промышленные фонды не по прямому назначению. Даже если против них начиналось уголовное преследование, оно быстро прекращалось, либо процесс заканчивался оправдательным вердиктом с шаблонной мотивировкой: «Нецелесообразность судебной репрессии из-за отсутствия в действиях обвиняемых корысти и положительных отзывов с места работы». От себя добавим, что отступление от норм закона и в самом деле могло быть вынужденным, так как через дополнительное стимулирование «нужных людей» легко расшивались узкие места на производстве. Отдача окупала риски.
Незадолго до окончания войны правоохранители занялись обобщением практики экономических преступлений в конкретных отраслях народного хозяйства. Г. Гольст осветил ситуацию в хлебопекарной промышленности [3]. Хищения хлеба происходили в цехах и на складах во время его хранения, при транспортировке и передаче готовой продукции магазинам. Чаще всего недобросовестные работники образовывали криминальное сообщество с шоферами, техничками, бригадирами, начальниками участков, бухгалтерами и завмагами. Старались устроить так, чтобы никакие документы не отражали недостачи. Обычно дело заводилось по отдельным, случайно выявленным фактам: или возчик реализовал на базаре несколько десятков буханок, или находили излишки при внезапной ревизии в булочной.
Сообщалось о некоторых распространенных приемах создания неучтенных запасов. Иногда вес вагонетки, на которой хлеб вывозился из пекарни, искусственно облегчался по сравнению с указанным в техпаспорте. Это позволяло нагружать в нее больше положенного и без хлопот проходить контрольное взвешивание. А перед прибытием на торгово-оптовую базу ее, наоборот, утяжеляли, подкладывая под днище какой-нибудь балласт. Полученную разницу комбинаторы делили между собой. Не потеряли значения и такие «надежные» способы очковтирательства, как уменьшение в отчетах процента припека, подделка товарных ордеров, реализация мучных изделий в горячем состоянии (тогда они тяжелее, чем остывшие), списание в отходы вполне съедобного хлеба.
С позиций социологического анализа выполнена публикация И. Сапожникова о кражах на текстильных предприятиях [14]. Лишь каждая пятая из них подпадала под определение «крупная», остальные относились к незначительным и мелким. Поскольку основной контингент правонарушителей состоял из ткачих — вдов, жен и дочерей военнослужащих, то администрация, как правило, ограничивала меры воздействия постановкой на вид или дисциплинарным взысканием. Женщины, которых задерживали на проходных с обрезками материи, придумывали себе вымышленные фамилии и адреса, и возбуж денные дела вск оре прекращались за нерозыском предприятием. Это не дополнительная мера наказания, а гражданско-правовое обязательство, возникающее из ст. 408 Гражданского кодекса РСФСР. Даже освобождение осужденного из тюрьмы, например, по амнистии, не избавляет его от возмещения ущерба государству [18].
обвиняемых. Их увольняли, но потом опять брали на прежнее место, ведь кадров не хватало. В конце концов, они представали перед судом, получали условный срок, возвращались на производство и принимались за старое. Автору ничего не оставалось, как объяснить высокую долю рецидивной преступности в отрасли (около 60 %) активностью «антиобщественных элементов».
Следственные органы продолжали изучать и классифицировать методы, изобретенные подпольными дельцами с целью обогатиться за счет государства. Некоторые были весьма оригинальными, что побудило старшего следователя Челябинской областной прокуратуры В. Сухорукова поделиться навыками их раскрытия [16]. Ниже приведено несколько впечатляющих примеров.
Отдел рабочего снабжения Магнитогорского комбината получал по фондам курятину с Троицкой птицефабрики. Часть поставок оплачивалась наличными деньгами, но не приходовалась, а отправлялась на реализацию по рыночным ценам. Из выручки покрывались расходы по кассе, остаток же распределялся между руководителями двух структур. Все это обнаружилось в ходе встречной проверки. Поводом для нее послужило приобретение одним из фигурантов нескольких предметов роскоши.
Порой теневая сделка маскировалась под обычный договор купли-продажи, хотя в действительности осуществлялась в несколько стадий, и в ней участвовал ряд заинтересованных сторон. Так, некто Симонов числился уполномоченным одного из заводов. С ведома директора он послал в трест «Главхимсбыт» официальное требование на выделение трех тонн эмали. Полученный счет утаил, от имени завода выписал фиктивный, где завысил сумму в три раза, и предъявил его в городской отдел народного образования, остро нуждавшийся в краске для ремонта школ. При этом попросил разбить платеж: часть перечислить поставщику, т. е. тресту, остальное распределить между двумя сторонними организациями якобы по взаимозачету. Свои «комиссионные» взял наличными. Фокус был в том, что деньгами педагогов мошенник расплачивался за услуги и товары, полученные не заводом, а им самим. Перед тем, как попасться, он провернул еще несколько подобных операций: с фуражом для скота, вином и автозапчастями, присвоив около миллиона рублей. Построил себе дом, сарай, приобрел велосипед, мотоцикл, корову. Подарил жене дорогие украшения. Основанием к аресту стали показания его шофера.
Немалый доход казнокрадам сулили манипуляции с оборотными средствами предприятий. Сат-кинский мясокомбинат производил разрешенный обмен скота с крестьянскими дворами из расчета: за молодую молочную корову две головы телят. Одну не приходовали по бухгалтерии, а отдавали на откорм родственникам и знакомым. Убыль живого веса относили на снижение упитанности. Выпускали колбасу с повышенной влажностью и посторонними включениями. Некоторое количество возникавших излишков распределялось среди руководителей района. Прочее расхищалось. Нарушения вскры- лись в ходе проверки, предпринятой областной прокуратурой.
О том, какие «дивиденды» можно было извлечь из неподнадзорного труда надомников в промысловой кооперации, поведал Г. Александров [1]. Верхнесалдинская артель «Рекорд» (Свердловская область) умышленно завышала число таких лиц в штате, вуалируя это липовыми нарядами и ведомостями. Ей выдавали ежемесячно 365 листов продовольственных талонов на 5471 кг хлеба 1. «Лишние» карточки правление пускало в продажу по 300—750 руб. А реальные надомники — их было немного — догадались скупать дешевый неликвид в государственных магазинах и сдавать его в товарищество как результат своей работы. Так они получали и зарплату, и желанный паек. А никому не нужные товары возвращались на полки, откуда их недавно забрали, и, в конце концов, отправлялись в утиль. Наглядная модель круговорота барахла в природе.
Проведенный обзор позволяет заключить, что в течение всех лет войны в Советском Союзе существовала открытая трибуна для обсуждения актуальных вопросов противодействия экономической преступности. В выступлениях, статьях, заметках теоретиков и практиков отечественной юриспруденции — руководителей профильных ведомств, ученых, работников суда и прокуратуры — интерпретировались действовавшие правовые нормы и правила, обобщался опыт выявления, расследования и пресечения хищений госсобственности. Роль адвокатов в силу определенных причин не афишировалась, но по косвенным признакам, к которым относятся упоминания о большом количестве пересмотренных и отмененных приговоров, можно понять, что она была немаловажной.
Публикуемые материалы адекватно отражали проблему криминализации хозяйственной сферы в военное время и предлагали эффективные механизмы и средства ее разрешения. Однако по ним нельзя составить представление о масштабах данного явления, а также о том, в какой степени указания и рекомендации экспертов воспринимались сотрудниками правоохранительных органов на местах, служили для них руководством к действию и обеспечивали требуемый результат. Ответ на этот вопрос необходимо искать в архивах.
Положительно надо оценить попытку авторов дифференцировать подходы к анализу причин и характера совершенных противоправных деяний в зависимости от профессиональной, должностной, социальной принадлежности преступника, а также жизненной ситуации, в которой тот оказался. Отметим стремление разобраться в недостатках работы отдельных силовых структур и наметить пути их преодоления.
Таким образом, изученный массив информации обладает основными атрибутами научного знания, среди которых объективность, конкретность, наличие дискурса, но не дает исчерпывающего знания о предмете исследования из-за ограниченности формата, идеологизированности и подцензурности. Тем не менее, его следует признать уникальным источником и рекомендовать к использованию при написании монографий, посвященных периоду 1941 — 1945 гг.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00185.
Список литературы Экономическая преступность в годы Великой Отечественной войны (по страницам журнала "Социалистическая законность" 1941-1945 гг.)
- Александров, Г. Задачи следствия в борьбе с хищениями социалистической собственности / Г. Александров // Социалистическая законность. - 1945. - № 9. - С. 39-43.
- Власов, В. Усилить борьбу за охрану урожая / В. Власов // Социалистическая законность. - 1941. - № 12. - С. 9-11.
- Гольст, Г. Успех следствия - в его тщательности / Г. Гольст // Социалистическая законность. - 1944. - № 9-10. - С. 35-36.
- Голяков, И. Усилить борьбу с хищениями социалистической собственности / И. Голяков // Социалистическая законность. - 1942. - № 2. - С. 5-6.
- Горшенин, К. Боевые задачи судов и органов юстиции / К. Горшенин // Социалистическая законность. - 1944. - № 1. - С. 1-5.