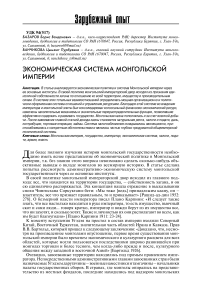Экономическая система Монгольской империи
Автор: Базаров Борис Ванданович, Ванчикова Цымжит Пурбуевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 6, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется экономическая политика и система в Монгольской империи через ее основные институты. В своей политике монгольский императорский двор исходил из признания единоличной собственности хагана над всей территорией, имуществом и производительными силами. В системе этих тотальных взаимоотношений определилась мощная организационно и политически оформленная система отношений и управления ресурсами. Благодаря этой системе во владении императора и монгольской элиты был консолидирован колоссальный финансово-экономический ресурс, намечены накопительные механизмы и значительные перераспределительные функции, позволявшие эффективно содержать и развивать государство. Монгольская казна пополнялась и за счет военной добычи. После завоевания главной статьей дохода казны становятся натуральная рента, налоги и подати, дань, контрибуции, торговые операции, займы. Система налогообложения складывалась эволюционно, приспосабливалась к конкретным обстоятельствам и являлась частью глубоко продуманной общеимперской политической системы.
Монгольская империя, государство, император, экономическая система, налоги, подати, армия, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/170167970
IDR: 170167970 | УДК: 94(517)
Текст научной статьи Экономическая система Монгольской империи
Д ля более полного изучения истории монгольской государственности необходимо иметь ясное представление об экономической политике в Монгольской империи, т.к. без знания этого вопроса невозможно сделать сколько-нибудь объективные выводы о вкладе монголов во всемирную историю. В статье сделана попытка рассмотреть административно-экономическую систему монгольской государственности через ее основные институты.
В своей политике монгольский императорский двор исходил из главного подхода: все, что находится на территории государства, – собственность хагана, и он ею единолично распоряжается. Эта концепция нашла отражение в высказывании снохи Чингисхана Соркуктани-беги: «Мы тоже [ведь] принадлежим каану, он – властитель; все что признает правильным, то и приказывает» [Рашид-ад-дин 1952: 278]. О безмерной власти императора писал Плано Карпини: «И следует также знать, что все настолько находится в руке императора, то есть имущество, вьючный скот и сами люди… говоря кратко, император и вожди берут из их имущества все, что ни захотят, и сколько хотят. Также и личностью их они располагают во всем, как им будет благоугодно» [Плано Карпини 1911: 23-24].
К моменту вступления Угэдэя на престол в состав империи входили Северный Китай, Восточный Туркестан, значительная часть областей Ирана и Кавказа. Прав В.В. Бартольд, который пришел к следующему заключению: «Доказано, что, несмотря на произведенное монголами опустошение, первое время существования монгольской империи было временем экономического и культурного расцвета для всех областей, которые могли пользоваться последствиями широко развившейся при монголах торговли и более тесного, чем когда-либо прежде и после, культурного общения между западной и восточной Азией» [Бартольд 1926].
Очевидно, завоеванные территории находились под прямым правлением императора. Непосредственными административными главами завоеванных стран были назначаемые Угэдэем даругачины – военные наместники и тамгачины – начальники палаты государственных сборов. В странах, где монголы опирались на представительство из местных феодалов, последние находились под надзором монгольских специальных представителей налоговой службы – баскаков. Территория Китая, в частности, была разделена на 10 областей, установлены пункты сбора податей, и в каждое такое место были определены по 2 чиновника. В Китае были учреждены специальные казенные палаты, ведающие сбором хлеба и денег по округам, областям и уездам [Бичурин 1829: 162]. Эти палаты были созданы в целях унификации доставки и учета продукции натурального обложения.
Для исчисления налоговых поступлений была проведена перепись населения в Северном Китае, Армении, Грузии и Иране. Перепись 1236 г. в Северном Китае установила численность податного населения в размере 1 040 тыс. семейств, или домов [Бичурин 1829: 264]. На Кавказе перепись была проведена несколько позднее, в 1254–1255 гг. По данным Стефана Орбелиани, в это время по «великому дав-тару числилось во владениях Апага-хана [Абагай-хана, сына Хулагу] 150 туманов; в каждом тумане – 10 тыс. человек» [Патканов 1871: 83–84].
Насколько были тяжелы налоги для населения Кавказа, свидетельствует сочинение инока Магакии: «И разорили они восточную страну еще более тем, что в малейшей деревне насчитывали от 30 до 50 человек, начиная с 15-летних и кончая 60-летними; и с каждой головы, попавшей в запись, брали по 60 белых» [Патканов 1871: 23-24], т.е. серебряных монет. Тяжесть налогов усугублялась еще и тем, что сбор их нередко отдавался откупщикам, например в Иране и Китае.
В эпоху Чингисхана в Монгольском государстве был учрежден эквивалент денежной единицы балыш – золотой и серебряный. По данным персидского историка XIV в. Вассафа, балыш весил около 2,25 кг. Золотой балыш стоил 2 000 динаров, а серебряный – 10 динаров [Barthold 1959: 621].
Разменная китайская монета была медной или бронзовой. Рубрук указывает, что размер дани, установленной для живущих в Кара-Коруме китайцев, равнялся 1 500 яскотам, поясняя, что один яскот был равен куску серебряного слитка «весом в 10 марок» [Рубрук 1911: 111-112]. Яскоты, видимо, были самой распространенной монетой в Монголии и имели эквиваленты не только в уделах империи, но и за ее пределами.
В 1286 г. при императоре Угэдэе были введены в обращение бумажные ассигнации на сумму 10 тыс. малых слитков, т.е. на 50 тыс. унций серебра. Ассигнации имели название цзяо-чао [Бичурин 1829: 261]. Одновременно был издан устав об обращении ассигнаций. О них упоминает и Рубрук: «Ходячей монетой в Китае служит бумажка из хлопка шириною и длиною в ладонь, на которой изображают линии, как на печати Мангу» [Рубрук 1911]. Ни Европа, ни другие азиатские страны в XIII в. ассигнаций еще не знали. Более обстоятельно об ассигнациях сообщает Марко Поло: «В Канбалу монетный двор великого хагана... Изготовляется по его приказу такое множество этих денег, что все богатство в свете можно ими купить... когда бумажка от употребления изорвется или испортится, несут ее на монетный двор и обменивают, правда, с потерей трех на сто [ассигнаций], на новую и свежую… если кто пожелает купить золота или серебра ‹…› то идет на монетный двор великого хана, несет с собой бумажки и ими уплачивает за золото и серебро, что покупает у управляющего двором» [Марко Поло 1955: 119-120].
Бумажные деньги имели хождение в Китае. Что касается обращения ассигнаций в самой Монголии, в 1926 г. в развалинах Хара-Хото П.К. Козлов обнаружил ассигнации времени Юаньской династии с надписью на монгольском языке. Поэтому можно предполагать, что ассигнации употреблялись в Монголии при династии Юань. В 1294 г. ассигнации пытались ввести в Иране, что встретило активное сопротивление со стороны местного населения, и бумажные ассигнации в Иране были отменены [Рашид-ад-дин 1946: 135].
В начале 1230 г. Угэдэй приказал организовать сбор пошлин по китайским областям из следующего расчета: с вина – 10%, а с прочих товаров – один с тридцати [Рашид-ад-Дин 1946: 152]. В 1236 г. был издан указ о введении пошлин на привозные товары. По «Тун-цзянь ган-му» купцам было предписано платить пошлину из расчета один к тридцати, также была установлена пошлина на соль: за 40 гинов соли – унция серебра [Бичурин 1829: 265-266].
Во владении императора и монгольской элиты в период имперского владычества сосредоточивались несметные богатства. Часть их образовывалась посредством военной контрибуции. Так, например, при завоевании Тангутского государства в Монголию было поставлено большое число верблюдов – основного транспортного средства при международной торговле.
«Сокровенное сказание» сообщает, что при завоевании Месопотамии Угэдэй назначил главнокомандующего войском Чормахан-хорчина главным государственным сборщиком налогов и пошлин для ежегодной поставки в столицу империи следующих произведений и товаров: желтого и литого золота, парчи и штофов, золоченых вышивок местной работы, жемчуга, перламутра, породистых коней, верблюдов и мулов разных пород, павлинов [Козин 1941: 193-194].
Монгольская казна пополнялась за счет ограбления чужих стран, военной добычи, особенно в первый период военных походов. После того как эти страны были завоеваны, главной статьей дохода казны становятся налоги и подати, дань, контрибуции, торговые операции, займы.
Прообразом податей и налогов, которые были введены в царствование императора Угэдэя, можно считать так называемый рацион, провиант (ši’üsün~šüsün) – натуральную повинность простых монголов в пользу своего господина. Эта повинность выражалась «в предоставлении мелкого скота на убой и в отправлении в ставки феодалов на срок известного количества дойных животных, главным образом кобылиц» [Владимирцов 1934: 113]; со временем эта повинность превратилась уже в государственную. Упомянутая натуральная рента, несомненно, как заключает Б.Я. Владимирцов, существовала еще до образования Монгольского государства [Владимирцов 1934: 114].
Из имеющихся источников трудно составить ясное представление о налоговой системе, действовавшей в Монгольской империи. Однако понятно, что она не была одинаковой в разных ее частях. По заключению Г.Е. Грумм-Гржимайло, монголы старались примениться к налоговой системе, действовавшей в той или иной стране ранее. Введение налогов в самой Монголии и упорядочение их в завоеванных странах приписывается Угэдэю, правившему с 1228 по 1241 г. В 1235 г. при Угэдэй-хане на курултае в местности Талан-Дабэ был установлен копчур со скота и налог на посевы [Рашид-ад-дин 1960: 36]. Копчур – это пастбище и налог с пасущихся на нем стад в размере одной головы с каждой сотни голов скота, т.е. один процент стада. Он взимался преимущественно с кочевников, т.к. земледельцы не имели больших стад. Копчур платили и монголы, входившие в состав монгольского войска [Бартольд 1911: 32].
В «Сокровенном сказании» говорится, что надлежит взимать по одной овце с каждой сотни овец «в пользу неимущих и бедных» [Козин 1941: 197]. Судя по источнику, этот налог имел всеобщий характер для скотоводческого населения Армении, Грузии, Ирана, Китая и, возможно, других завоеванных стран, а также для монголов внутренних районов Монгольского государства. То, что копчур первоначально предназначался в пользу бедных, подтверждается следующим фрагментом из «Сборника летописей»: «Раньше, когда существовали их обычаи и правила [т.е. обычаи и законы, характерные для монгольского обычного права], со всего монгольского войска выделяли ежегодно обедневшим ордам и дружинам копчур лошадьми, овцами, волами, войлоком, крутом и прочим» [Рашид-ад-дин 1946: 281].
На том же курултае Угэдэй-хан упорядочил взимание налога шулен и постановил ввести «ежегодную натуральную повинность со всего народа, со всех тысяч по одному двухлетнему барану со стада на царское продовольствие…» [Козин 1941: 198]. По-видимому, этот натуральный налог касался исключительно монгольского населения. Как копчур, так и шулен представляли собой натуральную продовольственную повинность, которую несло в основном кочевое население в пользу императорского дома: самого хагана и четырех царевичей – владельцев уделов. В китайском тексте «Сокровенного сказания» указ Угэдэй-хана об упорядочении названных двух повинностей сформулирован более подробно: «Со стад народа каждый год брать только по одному двухгодовалому кладеному барану и обваривать его... с сотни баранов брать по одному барану для вспоможения бедным того улуса» [Кафаров 1866: 162].
Таким образом, на основе сопоставительного анализа разных источников можно заключить следующее: копчур предназначался для «вспоможения бедным», т.е. был своего рода социальным налогом, происхождение которого идет из старинного обычного права монголов. Со временем он утратил социальное предназначение и превратился в государственный налог. Шулен распространялся только на самих монголов и был официальным государственным налогом. В Армении и Грузии налоги копчур и мал были введены нойоном Аргуном [Патканов 1873: 88]. Копчур собирался со всего монгольского войска и ежегодно выдавался обедневшим ордам и дружинам, т.к. войско обычно сопровождали их семьи. Поэтому в их прокормлении были заинтересованы сами владетели улусов и другие феодальные владетели. Так обстояло дело в монгольских гарнизонах, расположенных на территории Ирана. При иль-хане Газане, при дворе которого состоял сам Рашид-ад-дин, копчур утратил первоначальное значение и превратился в обычный налог, взимавшийся как с кочевников (в т.ч. с монголов), так и с оседлых жителей Ирана. Об этом свидетельствует список указа иль-хана Газана о порядке взимания налогов с населения его улуса, где упоминаются копчур и подати с оседлых ра’иятов, копчур и подати с кочевников [Рашид-ад-дин 1960: 260].
На курултае 1235 г. была проведена реформа старинного монгольского налога ундана – натурального налога кумысом дойных кобыл. Согласно «Сокровенному сказанию», император предложил унифицировать организацию поставки ундана в следующем высказывании: «Как можно допускать такой порядок, когда с народа в каждом отдельном случае взимается и питьевая натуральная повинность – ундан – при сборах с него очередных нарядов людьми и лошадьми. В устранение этого необходимо повсюду от каждой тысячи выделить кобыл и установить их подой; поставить при табунах доильщиков, выставить постоянно сменяемых распорядителей кочевьями, нунтукчинов, которые одновременно будут и унгучинами, заведующими конским молодняком» [Козин 1941: 197]. Повинность ундан, видимо, распространялась только на монголов.
Тогда же, в 1235 г., Угэдэй-хан повелел, «чтобы с каждых десяти тагаров пшеницы дали один тагар для расходования для бедных» [Рашид-ад-дин 1960: 36]. Тагар в монгольском языке означает «мешок, меру хлеба», который равнялся 750 фунтам. По армянским источникам, в Армении и, видимо, вообще на Кавказе тагар заключался в следующем: «С каждой головы [очевидно, с каждого мужчины], вошедшей в перепись, монгольские сборщики податей и налогов брали 100 литров пшеницы, 50 литров вина, 2 литра рису, 3 мешка, 2 веревки, 1 белую [серебряную монету], 1 стрелу, 1 подкову, с 20 штук рогатого скота – одну штуку и 20 серебряных монет. Кто не имел возможности заплатить все перечисленное, у тех отбирали сыновей и дочерей» [Патканов 1871: 71], т.е. тагар был налогом подушным.
В земледельческих странах назначение тагара, видимо, было в обеспечении войска, императорского двора зерном и фуражом. В некоторых подвластных монголам странах сборщики податей распространили тагар на другие виды продовольствия и даже на деньги.
По сведениям Плано Карпини, монголы практиковали воинскую повинность, так называемую «плату кровью» от завоеванных народов: «чтобы они шли с ними в войске против всякого человека, когда им угодно, и чтобы они им давали десятую часть всего, как от людей, так и от имущества. Именно они отсчитывают десять отроков и берут одного и точно так же поступают и с девушками; они отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов. Остальных они считают и распределяют согласно своему обычаю» [Плано Карпини 1911: 33].
Угэдэй приказал обложить китайцев, обитавших по северную сторону от Желтой реки, податью, считая по домам, т.е., очевидно, по семьям или хозяйствам: каждые два семейства или дома должны были вносить в казну один гин шелка; пять семейств обязаны были предоставлять один гин шелка для раздачи «именитым свойственникам» и заслуженным чинам. С одного му (1 200 кв. фунтов) лучшей земли каждая семья обязана была вносить в казну по 3,5 гарнца проса, с одного му плохой земли – 2,5 гарнца. С одного му водяных пашен должны были сдавать в казну по 5 гарнцев риса [Бичурин 1829: 265].
В параграфе, посвященном племени тангутов, Рашид-ад-дин упоминает Унаган-нойона, который начальствовал над главной тысячей Чингисхана. «В тот век, – пишет Рашид-ад-дин, – всякого рода подати и повинности, как то: калан, улаг, шусун, ингерджак, аргамчи и прочие, которые представляют войскам, всем этим удовлетворяли по справедливости тысячу человек Чингис-хана и тех, кто принадлежал лично его особе. И это [все] давали по слову Унаган-нойона» [Рашид-ад-дин 1952: 145].
Улаг – это подводная повинность. Что касается термина «калан», то он трактуется у Рашид-ад-дина как «дань» [Рашид-ад-дин 1952: 145] и как «воинская повинность» – в армянских источниках. Так, например, Магакия пишет: «Между тем великие и независимые князья грузинские, кто волей, кто неволей сделались их [т.е. монголов] данниками, как мы выше писали, и каждый с известным числом всадников, смотря по состоянию, вступал к ним в халан» [Патканов 1871: 11]. Тамга (монг. tamaγa ) – буквально «клеймо», «сбор», «пошлина», по-видимому, аналогична гербовому сбору в современных государствах.
Следует отметить, что в Монгольской империи монастыри и церкви были освобождены от какого-либо налогообложения независимо от конфессиональной принадлежности.
Подводя итоги сказанному выше, следует подчеркнуть, что административноэкономическая деятельность в разные периоды существования монгольской государственности и империи отличалась, с одной стороны, стремлением унифицировать налоговую систему, а с другой – необходимостью учитывать специфику хозяйственных укладов и традиций разных народов и государств, введенных в орбиту монгольского политического доминирования. Ряд традиционных для монголов сборов постепенно превратились в государственные налоги, распространившиеся в пределах империи. Часть из них легла на местное население, чтобы обеспечить войско провиантом и денежным довольствием. Разнообразно и практическое применение одного и того же по названию налога как в разных краях империи, так и в хронологическом разрезе.
Важно отметить, что система налогообложения складывалась эволюционно, приспосабливалась к конкретным обстоятельствам и являлась частью глубоко продуманной общеимперской политической системы. На наш взгляд, в рамках современного процесса глобализации уникальный опыт монгольской государственности имперского периода со своими достижениями и просчетами становится актуальным и должен быть тщательно изучен во всей исторической полноте.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии». Проект №14-1800552.
Список литературы Экономическая система Монгольской империи
- Бартольд В.В. 1911. Персидские надписи на стене Анийской мечети Мануче. СПб.: Тип. Имп. акад. наук. Анийская серия. №.5. 44 с
- Бартольд В.В. 1926. История изучения Востока в Европе и России. 2-е изд. Л.: Ленинградский институт живых восточных языков. 152 с
- Бичурин Н.Я. 1829. История первых четырех ханов из дома Чингисова/пер. с кит. монахом Иакинфом. СПб.: Тип. К. Крайя. XVI. 441 с
- Владимирцов Б.Я. 1934. Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализм. Л.: Изд-во и тип. АН СССР. 233 с
- Кафаров П. 1866. Старинное монгольское предание о Чингисхане Юань-чао би-ши /пер. с кит., с прим. арх. Палладия. Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. Т. 4. СПб.: Тип. В. Безобразова. 260 с
- Козин С.А. 1941. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Юань чао би ши. Т. 1: введение в изучение памятника, перевод, тексты, глоссарии. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 626 с
- Марко Поло. 1955. Книга Марко Поло/пер. со старофранц. И.П. Минаева; ред. и вступ. ст. И.П. Магидовича. М.: Географгиз. 376 с
- Патканов К.П. 1871. История монголов инока Магакии, XIII в. СПб.: Тип. Имп. акад. наук. 104 с
- Патканов К.П. 1873. История монголов по армянским источникам. Вып. I. СПб.: Тип. Имп. акад. наук. 140 с
- Плано Карпини. 1911. История Монгалов. -Плано Карпини И., Рубрук В. История Монгалов. Путешествие в Восточные страны. СПб.: Тип. А.С. Суворина. 232 с
- Рашид-ад-дин. 1946. Сборник летописей/пер. с перс. А.К. Арендса. Т. III. М.-Л.: 1-я тип. Изд-ва АН СССР. 340 с
- Рашид-ад-дин. 1952. Сборник летописей. Т. I. Кн. 2. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 995 с
- Рашид-ад-дин. 1960. Сборник летописей. Т. II. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 248 с
- Рубрук В. 1911. Путешествие в восточные страны. -Плано Карпини И., Рубрук В. История Монгалов. Путешествие в Восточные страны/введ., пер. и прим. А.И. Малеина. СПб.: Тип. А.С. Суворина. С. 79-194
- Barthold W. 1959. The Encyclopedia of Islam. Vol. I. Leiden-London